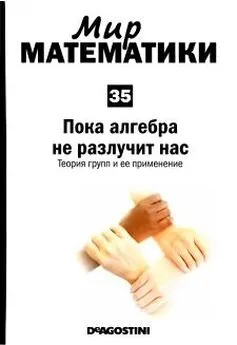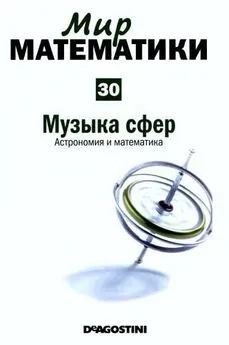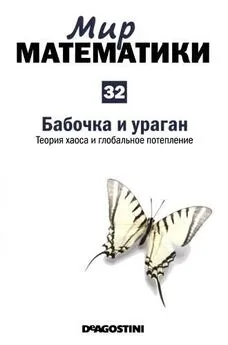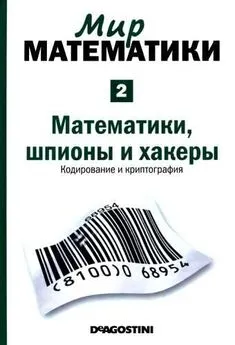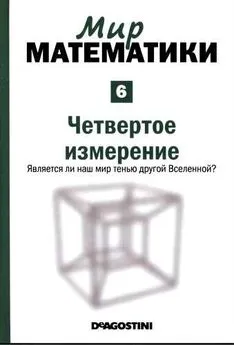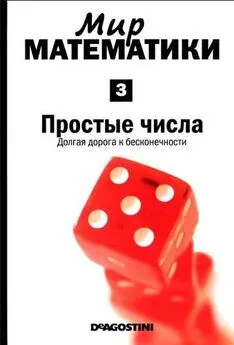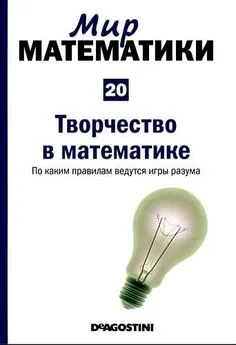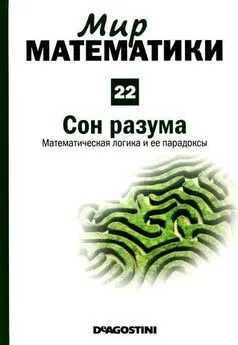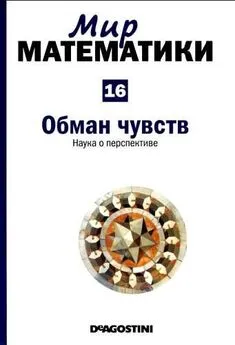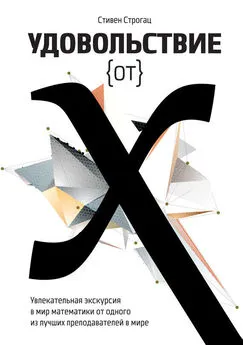Хавьер Фресан - Мир математики: m. 35 Пока алгебра не разлучит нас. Теория групп и ее применение.
- Название:Мир математики: m. 35 Пока алгебра не разлучит нас. Теория групп и ее применение.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Де Агостини»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9774-0730-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хавьер Фресан - Мир математики: m. 35 Пока алгебра не разлучит нас. Теория групп и ее применение. краткое содержание
В 1881 году французский ученый Анри Пуанкаре писал: «Математика — всего лишь история групп». Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что это высказывание справедливо по отношению к разным областям знаний: например, теория групп описывает кристаллы кварца, атомы водорода, гармонию в музыке, системы защиты данных, обеспечивающие безопасность банковских транзакций, и многое другое. Группы повсеместно встречаются не только в математике, но и в природе. Из этой книги читатель узнает об истории сотрудничества (изложенной в форме диалога) двух известных ученых — математика Андре Вейля и антрополога Клода Леви-Стросса. Их исследования объединила теория групп.
Мир математики: m. 35 Пока алгебра не разлучит нас. Теория групп и ее применение. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тропики были для меня печальными не только потому, что я видел, как их опустошил белый человек, но и потому, что я не смог до конца понять культуру индейцев, даже прожив среди них какое-то время. Можно было не спать от зари до зари, пытаться оставаться незамеченным, демонстрировать почти унизительное равнодушие и одновременно делать записи, но все это оказывалось напрасным, если индейцы объявляли мне безмолвную войну, как в Кампус-Новус. Мне доставляет облегчение думать, что лучший антрополог всех времен, Бронислав Малиновский, обладавший сверхъестественным чутьем, записал похожие мысли в своих дневниках, которые были опубликованы после его смерти. Об этом я узнал лишь много лет спустя. Работая «на земле», я утешал себя тем, что собираю сведения, ранее неизвестные человеку, которые без меня навсегда канули бы в Лету. Ценность этих сведений для истории была неоценима, но стоило ли это затраченных усилий?
ВЕЙЛЬ: Быть может, это и есть признак искусства? Флобер переписывал «Воспитание чувств» двадцать три раза. Эта книга была одним из первых его юношеских произведений, а последний вариант он завершил незадолго до смерти. Флобер стремился создать идеальный текст, в котором себя узнали бы все. Я убежден, что отличия между разными вариантами этой книги практически незаметны.
Когда я говорю об искусстве, то, разумеется, имею в виду и математику. Сколько часов можно потратить на доказательство леммы, которая станет лишь первым шагом на неизведанном пути, возможно, ведущим в никуда? Тем не менее единственный момент счастливого озарения наделяет смыслом все затраченные усилия. Не могу не процитировать Карла Фридриха Гаусса, «короля математиков», который в письме к итальянцу Гульельмо Либри писал «procreare jucumdum sed parturire molestum», то есть «зачатие сладостно, но роды мучительны».
ЛЕВИ-СТРОСС: Для меня воплощением научного поиска со всеми его трудностями и радостями по-прежнему остается поход на плато в Лангедоке в молодые годы, когда я со всех ног бежал вдоль линии, разделявшей два слоя в геологической формации. Если бы за мной со стороны наблюдал какой-нибудь альпинист, он счел бы мои перемещения абсолютно беспорядочными. Пейзаж, если уметь читать его, может раскрыть перед вами столько же секретов, как и лучшие из книг.
33
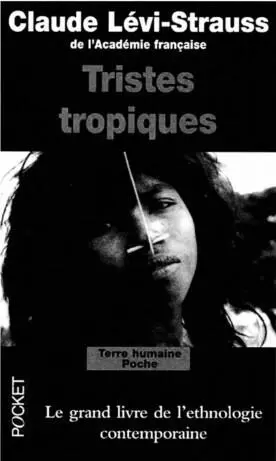
Обложка«Печальных тропиков».
ВЕЙЛЬ: Я иногда представляю себе творчество как длинный бег «сквозь ветер и ночь», «durch Nacht und Wind», который по мере приближения к цели становится все быстрее, подобно музыке Шуберта на поэму Гете «Лесной царь». Но не следует забывать, что иногда, как и в поэме, лишь ребенок может увидеть лесного царя, а конь замедляет свой бег и почти останавливается, не выбравшись из лесной чащи.
ЛЕВИ-СТРОСС: Вы хотите сказать, что задачи порой не поддаются даже такому гению, как вы?
ВЕЙЛЬ: Позвольте рассказать вам одну историю. В моей докторской диссертации я развил идею Анри Пуанкаре, который обобщил результат, полученный Луисом Морделлом.
34
Я рассмотрел рациональные решения уравнений вида
у 2= х 3+ ах + b.
Такие уравнения описывают кривые, которые математики называют эллиптическими. Взяв за основу два решения, Пуанкаре нашел метод, позволяющий получить третье решение. Мы поговорим об этом подробнее в другой раз; я не хочу, чтобы мы погрязли в деталях. Важно другое: Морделл доказал, что метод Пуанкаре позволяет найти все решения, которых, как правило, бесконечно много, на основе конечного числа тщательно выбранных решений. Я обобщил этот результат для кривых, задаваемых многочленами произвольных степеней. Это было непросто, поскольку в те годы еще не было известно ни единого метода современной алгебраической геометрии. Я поспешил рассказать о своем открытии Адамару и, довольный собой, самонадеянно заявил, что мои методы также позволят доказать гипотезу, предложенную Морделлом в его статье.
Реакцию Адамара на мое заявление предсказал бы любой, кто был с ним знаком. Он сказал:
«Господин Вейль, многие ценят вас очень высоко. На защите диссертации вы не можете остановиться на полпути. Это ваш долг перед самим собой. Ваш рассказ дает понять, что вы еще недостаточно развили свои идеи».
Он ответил мне точно так же, как и редакторы «Галлимара». Я последовал его совету, если, конечно, можно так выразиться, и сосредоточил свое внимание на гипотезе Морделла. Но все пошло вовсе не так, как я ожидал, и в итоге я оставил доказательство.
«Арифметика алгебраических кривых» — так я назвал диссертацию — была опубликована в 1928 году. Знаете, сколько лет ушло на то, чтобы доказать гипотезу?
Больше 50!
Более того, в доказательстве пришлось использовать методы, которые были открыты лишь в начале 70-х.
ЛЕВИ-СТРОСС: Признаюсь, что я не до конца понял вас, господин Вейль.
Надеюсь, что вы расскажете об этом подробнее как-нибудь в другой раз. Как бы то ни было, в вашем рассказе я решительно узнаю Адамара. В том же духе он ответил и мне, когда я попросил у него помощи в работе над «Элементарными структурами родства»: «В математике известны всего четыре операции, и я не припомню, чтобы заключение брака было одной из них». С вами он обошелся благожелательнее.
ВЕЙЛЬ: Здесь вы правы, иначе кто знает, кого бы мне назначили в соученики здесь, в загробном мире. Но вернемся к «Печальным тропикам». Не могу не отметить, что название вы выбрали превосходное.
ЛЕВИ-СТРОСС: Не знаю, согласятся ли с этим переводчики моих книг. Названия моих книг благозвучны лишь в романских языках. (В оригинале книга называется «Tristes Tropiques», сохранить игру слов в переводах не удалось.) На других языках в них нет той музыки, которая так привлекала меня, когда я думал над романом.
35
В переводе не звучит и название другой моей книги, La Pensee sauvage — «Неприрученная мысль». Оно теряет крайне важную для меня многозначность, ведь в этой книге я пишу о том, что в науке конкретного, в этой неприрученной мысли дикарей основой для классификации мира служат различные виды растений. Название каждой моей книги имеет свою историю, но ни одно из них не кажется мне столь прекрасным, как Le Regard eloigne — «Взгляд издалека». Под этим названием в 1983 году вышел сборник моих статей. Мне повстречалась фраза французского проповедника XVII века Жан-Батиста Масийона: «Если смотреть на мир вблизи, то кажется, что он не держится под собственным весом, но издали внушает восхищение». Я понял, что эта фраза станет превосходным эпиграфом для книги по этнологии, которая не может называться никак иначе, чем «Взгляд издалека». Тем не менее, благодаря одному из коллег, специалисту по религиозной литературе, я узнал, что смысл этой фразы прямо противоположен тому, о чем я хотел рассказать в своей книге. Масийон хотел сказать, что мир при рассмотрении вблизи обманывает чувства, вводит в заблуждение. Мне пришлось снять эпиграф, но я не сменил название, и оно по-прежнему остается одним из моих любимых.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: