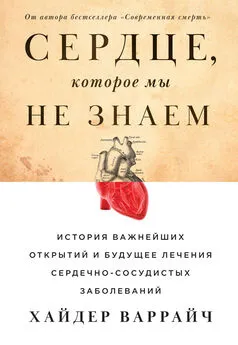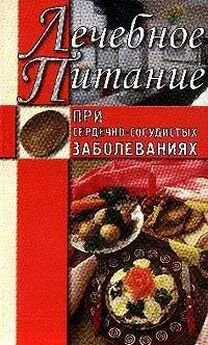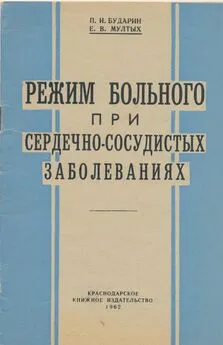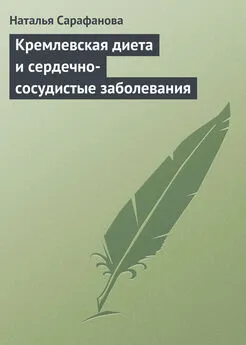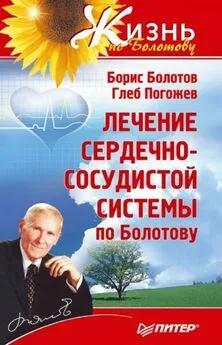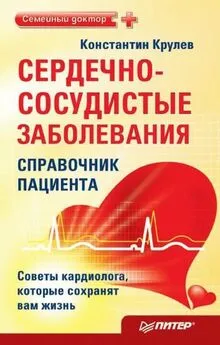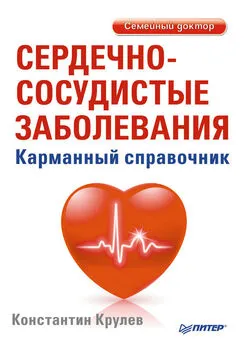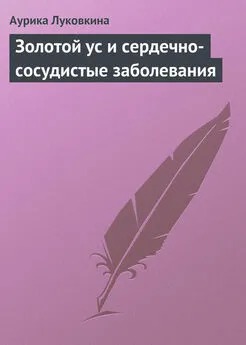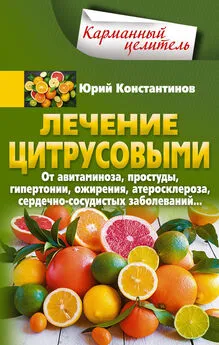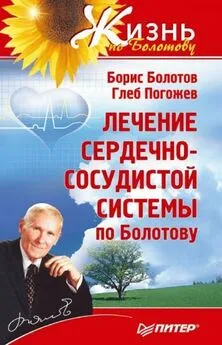Хайдер Варрайч - Сердце, которое мы не знаем. История важнейших открытий и будущее лечения сердечно-сосудистых заболеваний
- Название:Сердце, которое мы не знаем. История важнейших открытий и будущее лечения сердечно-сосудистых заболеваний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Альпина
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785961473445
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хайдер Варрайч - Сердце, которое мы не знаем. История важнейших открытий и будущее лечения сердечно-сосудистых заболеваний краткое содержание
Вы узнаете о строении и функциях сердца и коронарных сосудов, о самых распространенных болезнях, их диагностике, лекарствах, а также о плюсах и минусах популярных методов лечения – катетеризации, кардиостимуляции и электроимпульсной терапии. Книга полна историй из практики автора и его коллег и отсылок к истории медицинской науки.
Хайдер Варрайч объясняет, почему женщины страдают теми же сердечными заболеваниями, что и мужчины, но тип заболевания у них совершенно иной, что общего у коронарных и онкологических заболеваний, как эволюция могла привести нас к настоящей эпидемии ишемической болезни, рассуждает о нынешнем состоянии мировой клинической кардиологии и перспективах ее развития в эпоху внедрения искусственного интеллекта.
Сердце, которое мы не знаем. История важнейших открытий и будущее лечения сердечно-сосудистых заболеваний - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И лишь с приходом Возрождения, а за ним секуляризма поднялась волна перемен в отношении к немощи – и в первую очередь к боли. В эпоху Возрождения медицинская наука первое время существовала как продолжение религии: изучение болезней считалось формой прославления божественного, способом покорить природу и разгадать загадки вселенной. Однако постепенно она полностью обособилась и ее главной целью стала она сама. Человек, по словам Фрэнсиса Бэкона, стал архитектором своей судьбы и взял на себя и контроль над своей жизнью, и ответственность за нее.
И хотя стремление променять боль и страдания на полностью безболезненное существование возникло раньше, чем появилась анестезия и стали доступными обезболивающие, оно нашло в этих двух средствах идеальное воплощение. Долгое время прорывы в области общего обезболивания игнорировались, но в 1846 г., после публичной демонстрации стоматолога Уильяма Мортона в учреждении, позже ставшем Массачусетской больницей общего профиля, он наконец получил признание. Весть об этом открытии облетела, как эфир, всю Европу – чего никак не могло случиться с предыдущими разработками, которые появлялись еще тогда, когда культурные и социальные нормы, связанные с болью и ее зависимостью от сверхъестественных сил, делали любые попытки подавить боль практически аморальными [238]. К XIX в. в промышленно развитых странах боль стала восприниматься скорее как естественное физиологическое ощущение, чем как метафизическое орудие правосудия и божественного вмешательства. И когда эта революция начала набирать ход, немецкий фармацевт сумел выделить из опиума одно вещество. Он назвал это соединение «морфин» – по имени Морфея, греческого бога сновидений. Этот переворот в отношении к боли замечательно подытожил голландский антрополог Фредерик Бойтендайк (1887–1974), написавший в 1957 г.: «Современный человек находит оскорбительным многое из того, что раньше смиренно принималось. Его возмущает старость, долгое пребывание на больничной койке, зачастую даже смерть и уж точно боль. Ее возникновение неприемлемо» [239] De Moulin. Historical-Phenomenological Study.
, [240] Buytendijk F. Over de pijn (About the Pain). 3rd ed. Utrecht-Antwerp: Aula Books; 1957.
.
Неприемлемость боли, даже дискомфорта, достигла апогея к концу 1990-х, когда в США началась согласованная кампания по борьбе с эпидемией нелеченой боли. Организации общественного здравоохранения, такие как Объединенная комиссия, которая выдает больницам аккредитации, и Управление по здравоохранению ветеранов, в своих попытках сделать боль «видимой» выступили за то, чтобы ее приравняли к пульсу, артериальному давлению, частоте дыхания и температуре в качестве «пятого показателя жизненно важных функций» [241]. Появились книги, которые высекли систему оценки интенсивности болевых ощущений в массивном граните рутинных правил обследования пациентов [242]. Поэтому, когда я приехал в Бостон учиться в резидентуре, мне было велено спрашивать каждого пациента: «Оцените свою боль по шкале от 1 до 10, где 10 – самая сильная боль, которую вы испытывали в жизни». Большинство пациентов почти автоматически называли 10, хотя некоторые при этом корчились от боли, а другие преспокойно жевали гамбургер и смотрели телевизор. Я решил усовершенствовать свою систему, поэтому добавил мрачных подробностей: «где 10 – ужасная боль, такая, как будто вас пырнули ножом» – но и это не изменило ситуацию. Я накручивал дальше, пока 10 у меня не стало болью от удара несущегося локомотива. Теперь в ответах начали фигурировать восьмерки и девятки, но десятки все равно попадались чаще.
Такое пристальное внимание к боли, конечно, стало одним из главных факторов возникновения опиоидной эпидемии. Многие из тех, кто писал клинические протоколы и возглавлял движение Make America Pain-Free Again («Освободим Америку от боли»), получали финансирование от компаний – производителей опиоидных анальгетиков [243] Fauber J. 9 of 19 Experts on Pain Panel Tied to Drug Companies. Milwaukee-Wisconsin Journal Sentinel. June 25, 2014.
. При этом, когда в рамках одного исследования ученые попытались неукоснительно следовать в своих назначениях шкале боли, это привело лишь к росту числа побочных эффектов от введения анальгетиков [244]. А в одном недавнем исследовании было показано, что опиоиды справляются с умеренной и сильной хронической болью не лучше, чем отпускаемые без рецепта средства вроде парацетамола [245]. И теперь, когда мы пытаемся вылезти из этой опиоидной эпидемии, которая убивает больше американцев, чем эпидемия СПИДа на своем пике, почти все медицинские ассоциации, такие как Американская медицинская ассоциация и Американская академия семейных врачей, уже подчеркнуто не включают боль в список показателей жизненно важных функций [246].
Американцы страдают от болей сильнее, чем жители всех прочих стран, и потребляют 80 % производимых в мире медицинских опиоидов [247]. Медикализация боли была, возможно, ошибкой. Возможно, боль лучше лечить не аллопатическими, а гуманистическими средствами. Когда религия сдала позиции, секуляризация медицины дала толчок более активным поискам средств, способных избавить нас от этого до сих пор не вполне понятного нам чувства. И сейчас можно без преувеличения сказать, что те самые опиаты, от которых так сократилась продолжительность жизни американцев, заполнили собой ощущаемую многими пустоту, добавив новый смысловой слой провидческому высказыванию Карла Маркса: «Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа».
Наше отношение к боли продолжает меняться, и теперь, пытаясь осмыслить опыт опиоидного кризиса, мы упираемся в одно и то же досадное упущение: отсутствие какого-либо объективного метода оценки, позволяющего хотя бы как-то разграничить боль, которая свидетельствует об опасном для жизни состоянии, и боль, которая при всем сопряженном с ней дискомфорте не является признаком острого заболевания.
На протяжении всей этой истории взлета и падения авторитета боли боль в груди сохраняла за собой статус, вероятно, самого значимого из всех болевых ощущений. Упоминаниями о людях, страдающих от болей в груди, полнятся и литературные, и научные труды всех времен. Однако по мере того, как в мире множились жертвы атеросклероза, описания боли в груди начали меняться – и стали все больше походить на те, что обычно звучат в наши дни.
Британский врач Уильям Гарвей (1578–1657) сделал как-то запись об одном рыцаре, который, будучи человеком среднего возраста, «часто жаловался на мучительную боль в груди, которая особенно терзала его в ночные часы и внушала страх обморока или удушья, из-за чего жизнь его проходила в тревоге и смятении» [248] Harvey W. The Works of William Harvey Volume 7 (translated from Latin by Robert Willis). London: Sydenham Society; 1847.
. Андреас Везалий (1514–1564) задавался вопросом, не сопряжена ли «грусть и боль в сердце» с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но связь между подобными ощущениями и болезнью была установлена лишь в конце XVIII в. [249] Haneveld GT. [“A Sad and Painful Heart”–Andreas Vesalius as Cardiologist]. Verhandelingen – Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. 1993;55:683–99.
Даже Уильям Геберден (1710–1801), британский врач, первым описавший стенокардию, полагал, что вызвана она расстройством желудка. И когда та самая классическая боль в груди, которой мы все так страшимся, была уже вполне четко соотнесена с заболеванием сердца, все равно находились те, кто считал ее «невралгией» или признаком «истощения сердечной мышцы» [250]. В XIX в. описания боли в груди попадаются самые разные: кто-то страдает от нее годами, но продолжает с ней жить, а кто-то падает замертво в мгновение ока.
Интервал:
Закладка: