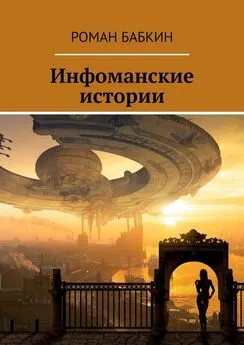Константин Фрумкин - Анатомия научно-фантастического рассказа
- Название:Анатомия научно-фантастического рассказа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Фрумкин - Анатомия научно-фантастического рассказа краткое содержание
Анатомия научно-фантастического рассказа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Полвека поисков: «демонстрация» или «контаминация»?
Классический научно-фантастический рассказ, расцвет которого пришелся на 60-е годы, выработал формулу, которая идеально сбалансированно уравнивала естественно-научную и гуманитарную составляющую литературного этоса. В этот период научно-фантастический рассказ в большинстве случаев стал историей о расплате за столкновение с чудесным, чаще всего — о расплате за научное открытие, причем расплате, затрагивающей личностные, социальные и моральные измерения реальности. Говоря коротко, это рассказ о моральных последствиях научных открытий. Эта формула стала доминировать к 60-м годам, хотя родилась она, разумеется, не тогда. С точки зрения истории литературы данная коллизия связана с фаустовским мифом, когда слишком любопытный маг и ученый оказывается в той или иной степени наказан за свою познавательную дерзость. Этой же формуле соответствует и «Франкенштейн» Мери Шелли, с которого иногда начинают историю научной фантастики.
Таким образом, сама по себе формула «расплаты за изобретение» была готова уже к началу ХХ века, но некоторые обстоятельства мешали ее широкому распространению внутри жанра в 20–40 годах — в частности, оптимизм, навязываемый советской идеологией, энтузиазм, вызываемый научно-техническим прогрессом, и связанная с этим энтузиазмом готовность ограничить художественные задачи рассказа просто демонстрацией возможностей науки. Отвлекали писателей и политические обстоятельства — например, тема будущей революции или позже, в 30-х годах, будущей войны, при изображении таких социальных катаклизмов было не до осмысления научных достижении. Поэтому примерно до 1950-х годов научные открытия не становились поводом для моральной рефлексии и социальной критики.
Доминирующая в послевоенном НФ-рассказе формула — «выявление моральных последствий научного открытия» — была замечательна не только с содержательной, но и с архитектурной точки зрения, поскольку она идеально решала проблему соединения фантазма с сюжетом и интеграции первого во второй. Если именно фантастическое открытие порождало находящуюся в центре писательского интереса моральную проблему, то фантазм, таким образом, запускал сюжет. Однако так было не всегда, и в первой половине ХХ века мы видим множество экспериментов по построению фантастических рассказов. Если считать найденную к 60-м годам формулу «идеальной», то с позиции сегодняшнего дня можно сказать, что первая половина века в истории русского фантастического рассказа ушла на поиски идеальной формулы, при этом авторами было опробовано множество иных схем повествования.
Были рассказы, не придающие большое значение личности героя и представляющие собой по сути хронику или панораму какого-либо будущего общества — это были в буквальном смысле слова «хроники будущего». В числе таких хроник «Республика Южного Креста» Валерия Брюсова (1905) — история гибели антарктической колонии и «Гибель Главного города» Ефима Зозули (1918) — история оккупации некоего Главного города американизированной западной державой, «Расстрелянная Земля» Николая Асеева (1921) — хроника межпланетной войны. В «Рассказе об Аке и человечестве» Ефима Зозули (1919) мы видим чередование эпизодов хроникального повествования со сценами диалогов персонажей, все-таки приближающих рассказ к «обычному» литературному тексту. Рассказы-хроники, как и рассказы-панорамы будущего общества писались примерно до конца 1920-х годов, последним — во всяком случае последним известным — образцом такого рода текста стал «Кол из будущего» (1927–1930) Велимира Хлебникова — бессюжетный набор зарисовок будущего общества.
Совсем другой метод демонстрирует в своих лучших ранних рассказах Александр Беляев, явно ориентирующийся на Жюля Верна и других авторов, сочетающих фантастику с приключениями. Классик советской НФ в значительной части случаев не выделял рассказ в качестве особого жанра, требующего специфической техники письма. Рассказов в творчестве Беляева вообще немного, а те, что есть, часто напоминают маленькие повести, включающие в себя, несмотря на объем, достаточно большое число эпизодов и разворачивающиеся на длинных временных периодах.
В рассказе «Амба» мы видим настоящую приключенческую повесть жюльверновского стиля, которая начинается с подробного описания, как герой еще в детстве мечтал поехать в Абиссинию, как он в нее наконец поехал, рассказывается о пирах в абиссинском племени, о знакомстве с разными людьми, о пропаже немецкой научной экспедиции — и только для того, чтобы разыскать пропавшего немецкого профессора, вводится фантастический элемент — оживление мозга погибшего ассистента, который и указывает дорогу к пропавшему. В сюжетном отношении фантастический элемент оказывается подчинен приключенческому и выполняет роль инструмента — с помощью него разыскивают пропавшего.
Рассказ Беляева «Сезам, откройся!!!» — классический детектив, который мог бы обойтись вообще без фантастики. Сюжет сводится к тому, что вор приводит в замок к богачу своего сообщника в металлических доспехах, выдавая его за робота-слугу, благодаря этому сообщник остается на ночь один рядом сейфом с драгоценностями. Фантастический элемент — небывалые для начала века бытовые приборы — служит лишь фоном, на котором робот-слуга кажется тоже правдоподобным.
В рассказе Беляева «Невидимый свет» есть социальный сюжет: ослепший рабочий сначала оказывается обобранным врачом-шарлатаном, а когда его все-таки излечивают, он оказывается на грани голода, после чего становится готов к революционной борьбе. К этому социальному сюжету довольно механически прибавлен сюжет о том, как перед излечением слепого делают участником эксперимента, позволяющего ему увидеть движение электронов, но эксперимент заканчивается, не имея особых сюжетных последствий, а социальный сюжет продолжает свое течение почти независимо от него. Демонстрация фантастической идеи просто вставлена в социальный сюжет.
Ранние рассказы Абрама Палея появились одновременно с беляевскими — в конце 20-х — начале 30-х годов, однако написаны по совершенно другой схеме. Их сверхзадача — демонстрация удивительных научных открытий, таких как электромагнитный «предотвратитель» столкновения поездов («Опыт машиниста Тураева», 1936) или генератор антигравитации («Необыкновенный дом», 1936). Демонстрацией эти рассказы практически и исчерпываются.
Сравнивая описанные выше рассказы Абрама Палея и Александра Беляева, мы видим две главных стратегии интеграции фантазма и сюжета в тексте рассказа. Первую стратегию можно было бы назвать «демонстрационной». В ее рамках фантазм поглощает сюжет и последний сводится к демонстрации удивительного явления. «Демонстрационная стратегия» была идеальной для «фантастики ближнего прицела», примером чего могут служить написанные в 1940-е году рассказы Владимира Немцов. Его рассказ «Шестое чувство» (1945), по сути, исчерпывается демонстрацией работы прибора, управляющего насекомыми с помощью радиолучей, а «Снегиревский эффект» (1946) — демонстрацией прибора, особым излучением ускоряющего рост деревьев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
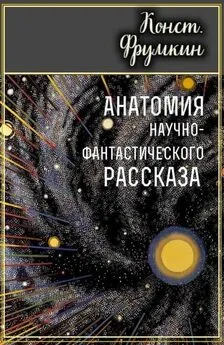

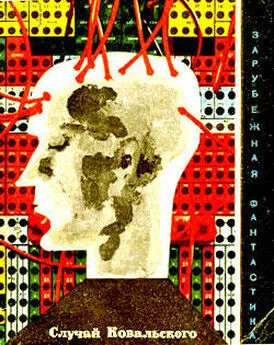
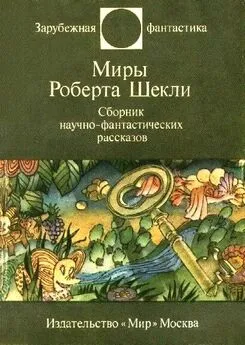
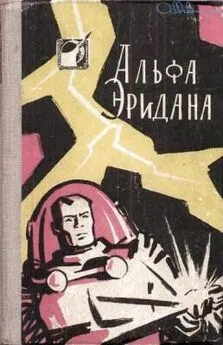
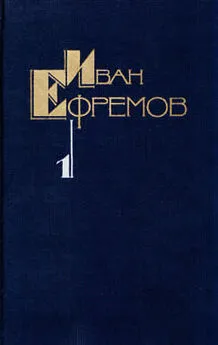
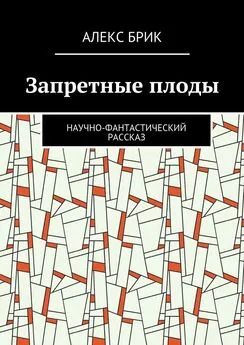
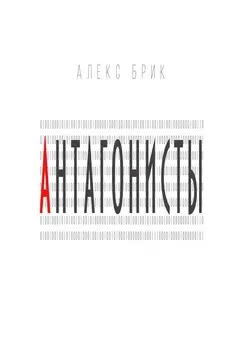
![Баррингтон Бейли - Тайна мистера Визеля [Альманах научно-фантастических рассказов]](/books/1087690/barrington-bejli-tajna-mistera-vizelya-almanah-nauchno-fantasticheskih-rasskazov.webp)