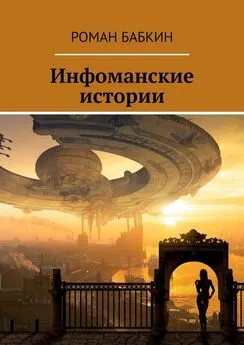Константин Фрумкин - Анатомия научно-фантастического рассказа
- Название:Анатомия научно-фантастического рассказа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Фрумкин - Анатомия научно-фантастического рассказа краткое содержание
Анатомия научно-фантастического рассказа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В «Моей Галатее» Галины Панизовской (1981) показывается, что компьютер мог бы быть гораздо эффективнее, если бы обладал эмоциями и был способен любить. В рассказе якутского писателя Гавриила Угарова «Вернуть открытие» (1981) смоделирована ситуация, в которой ценное открытие в сфере трансплантологии невозможно реконструировать после смерти его открывателя, поскольку сделать его мог только якут, доверяющий природе, живущий в мире запахов и наладивший живой контакт с собственной собакой. И даже наука будущего может столкнуться с не подвластными ей силами («Шесть спичек» Стругацких,1959).
Рефлексивная стратегия оказалась столь удачной, что она практически вытеснила из фантастики инструментальную стратегию: во второй половине ХХ века уже практически невозможно встретить НФ-рассказ, в котором бы фантастический элемент занимал подчиненную функцию по отношению к любовному, детективному или военному сюжету или бы был бы механически контаминирован с ним.
Однако это нельзя сказать о демонстрационной стратегии. Рефлексивная стратегия оттеснила ее на второй план, но не смогла вытеснить окончательно.
Когда какая-либо новая идея, новая тема очень сильно поражает воображение автора, то рассказ-демонстрация может появиться. В некотором смысле появление рассказа, написанного в демонстрационной стратегии, является симптомом рождения новой темы, которая еще не стала привычной и может удивлять как таковая. Это происходит, если демонстрация чуда достаточна ценна сама по себе, чтобы вписывать его еще в какую-либо сложную социально-моральную коллизию. Поэтому, если в своих ранних рассказах конца 50-х Стругацкие развлекали читателей «бесчинствующими» роботами, то Север Гансовский в рассказах начала 60-х — таких, как «Стальная змея» и «Хозяин бухты» — развлекает читателей «бесчинствами» обладающих странными свойствами невиданных, «альтернативных» животных.
По этой же причине в шестидесятые годы может появиться такой рассказ, как «Тень императора» Александра и Сергея Абрамовых, рассказ без внятного сюжета, посвященный демонстрации идеи возможности реконструировать звуки прошлых времен и смоделировать на основе реплик человека прошлого его виртуальную личность. Тогда эта идея казалась в новинку, и ее достаточно было показать — между тем, как уже через 10 лет, в рассказе Дмитрия Биленкина «Видящие нас», идея моделирования личностей прошлого уже подвергается моральной рефлексии: кибернетик не хочет подсматривать за интимными моментами людей прошлого и начинает осознавать, что сам оказывается под постоянным наблюдением людей будущего.
После 1960-х годов рассказы-демонстрации, рассказы-аттракционы пишутся редко, но они всегда свидетельствуют о рождении новой темы, о том, что фантастическая идея еще не стала рутинной и привычной.
Ускорение действия
Вопрос о сложных взаимоотношениях автора научно-фантастического рассказа с нормами «реалистической» литературы, какими они представали в литературном сознании ХХ века, очень любопытен, поскольку вообще «презентация фантастического» может быть выполнена куда более скупыми средствами, чем обычно нужно для написания рассказа. Презентация фантастического — это прежде всего интеллектуальный эксперимент, описание чего-либо необычного и последствий его появления, это может быть описано конспективно, на уровне чистых фактов. Разумеется, никто (в СССР — никто, кроме писателя Георгия Гуревича в книге «Древо тем») не решался ограничить дело только конспектом фактов, однако существовали приемы, позволяющие сделать изложение более лаконичным. В этой связи стоит указать на ряд любопытных феноменов.
Первый — это существование рассказов, вообще не похожих на рассказ, поскольку в нем описываются не герои и их действия, а именно ход событий — обычно хроника некоего общества будущего. Такого рода рассказы были распространены в основном в первой трети ХХ века.
Второй феномен можно назвать «документализацией». Суть этого литературного приема сводится к тому, что либо весь текст рассказа, либо его значительная часть подается как цитата или изложения некоего другого текста — письма, газетной статьи, торжественной речи, дневника или отчета. Этот прием используется в научно-фантастическом рассказе чрезвычайно часто — и кажется (хотя это только предположение) чаще, чем в современном ему реалистическом рассказе. Важнейшая функция документализации — оправдать ускорение движения действия и лаконичность в изложении сюжета, избавить писателя от необходимости, излагая факты и описывая причинно-следственные связи, слишком много внимания уделять традициям беллетристического повествования. Лучшим примером этого является «Республика Южного Креста» Валерия Брюсова, текст которой является якобы текстом некой газетной статьи. Значительная часть рассказа Михаила Арцибашева «Под солнцем» (1919) представлена как текст найденной в бутылке рукописи. Один из рассказов Романа Подольного так и называется — «Письмо», он представляет собой письмо ученого любимой девушке о ходе важного научного эксперимента.
Документализация, несомненно, один из симптомов того, что во второй половине ХХ века происходит интеллектуализация фантастического рассказа, который часто начинает играть роль мысленного эксперимента. Таким образом, в фантастике появляется «третий слой»: параллельно основному сюжету, построенному более или менее по общелитературным, новеллистическим канонам, параллельно фантазму, чья главная функция — удивлять читателя небывалыми фантастическими явлениями, появляется еще и интеллектуальный слой, призванный конструировать и демонстрировать гипотетические структуры реальности.
Наличие интеллектуального слоя повествовании имеет очень важное последствие для композиции НФ-рассказа: стереотипным элементом текста рассказа становится обычно довольно многословное объяснение, даваемое героем, таким образом вскрывающим тайну и разгадывающим загадку.
В результате сам сюжет перестраивается под необходимость дать герою слово для объяснения, ведь ему нужен для этого повод и площадка. Самый прямолинейный ход такого рода — когда в конце рассказа устраивается научный симпозиум (посвященный происходившим для этого в рассказе фантастическим событиям), и ученый в своей речи на симпозиуме ставит все точки над i — так устроен рассказ Михаила Грешнова «Краткий визит» (1988). Вообще, герои НФ-рассказов часто произносят речи — эту традицию задал еще Куприн в рассказе 1906 года, который так и называется — «Тост» (а через полвека Александр Казанцев пишет рассказ «Новогодний тост» на близкую тему). Лекции, экскурсии (особенно в научные учреждения), интервью — используются любые правдоподобные ситуации, чтобы дать герою довольно много говорить, давая объяснения. При этом стереотипным и, можно даже сказать, обязательным, структурным элементом повествования становится такая фигура, как «некомпетентный собеседник». Он нужен для того, чтобы «компетентный герой» был вынужден высказаться — причем предельно популярно и проговаривая те вещи, которые вроде бы для персонажей являются самоочевидными. Некомпетентный собеседник играет в повествовании роль провокатора объяснения — это громоотвод, куда ударяет риторическая «молния». Так, в рассказах Беляева про изобретения профессора Вагнера всегда есть герой-рассказчик, выполняющий роль своеобразного «доктора Ватсона» при профессоре Вагнере. Казанцев организует в своем рассказе «Гости из Космоса» беседу ученых с моряками полярного судна. Некомпетентным собеседником может оказаться родственник ученого («День и ночь» Владимира Немцова, 1946), водителем танка, на котором едут ученые («Забытый эксперимент» братьев Стругацких, 1959), журналист, берущий интервью («Четвертая производная» Дмитрия Биленкина, 1976). Может быть, предельного обнажения этот прием достигает в «Этих солнечных, солнечных зайчиках» Феликса Дымова, где большая часть повествования сводится к объяснениям, которые командир космического корабля дает своей жене. Жена не просто менее компетентна, чем остальной экипаж, но она еще и — так специально выстроено действие — опоздала к ночному собранию экипажу корабля, и поэтому — как бы для нее, а на самом деле для читателя — космонавты вынуждены еще раз кратко проговаривать всю фантастическую коллизию, с которой они столкнулись.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
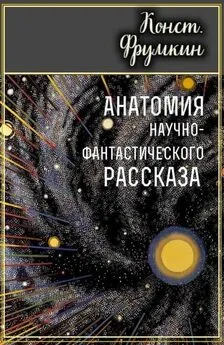

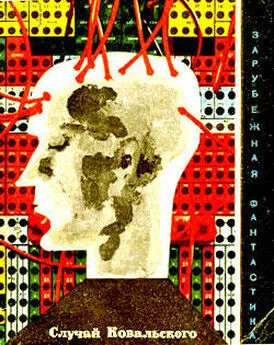
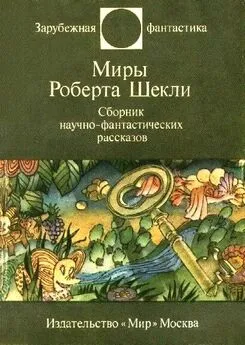
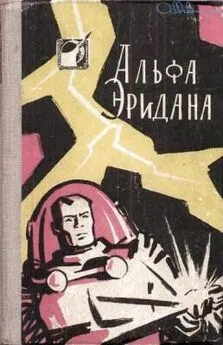
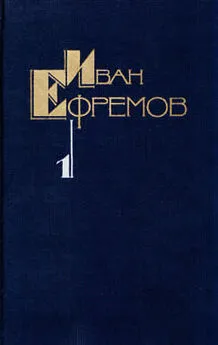
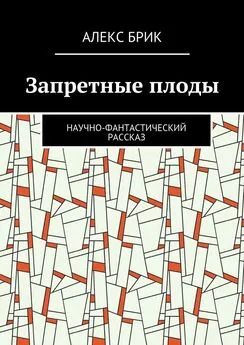
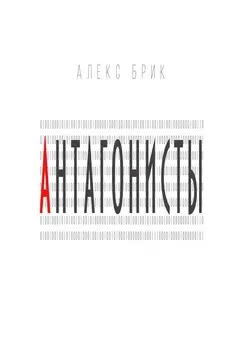
![Баррингтон Бейли - Тайна мистера Визеля [Альманах научно-фантастических рассказов]](/books/1087690/barrington-bejli-tajna-mistera-vizelya-almanah-nauchno-fantasticheskih-rasskazov.webp)