Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Название:Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119691-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Недошивин - Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны краткое содержание
В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто «чернорабочих русской словесности» и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная летопись книг, «география» поэзии и прозы и в то же время — захватывающие рассказы о том, как создавались в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стрелялось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохранившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памятные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообразов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны — всё это «от кирпичика до буквы» описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, дневниках, мемуарах и последних изысканиях учёных.
Книга, этот необычный путеводитель по Москве, рассчитана как на поклонников и знатоков литературы, так и на специалистов — литературоведов, историков и москвоведов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Литературная Москва. Дома и судьбы, события и тайны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хорошо, что этот дом не перестраивался до нашего времени. И хорошо, что жилица, историк театра Надежда Владимировна Лобанова,и ее муж, поэт и искусствовед Виктор Михайлович Лобанов, сохранили со всей обстановкой свою квартиру на 3-м этаже. Ведь в этих «интерьерах» многие часы проводили и Лев Толстой, и Антон Чехов, и Иван Бунин, и Александр Куприн, и позже — даже Есенин и Маяковский.
Вот как жить в такой квартире? Прикасаться к подоконникам, переклеивать обои, под которыми газеты полуторавековой давности, смотреть на дуб во дворе, который также видел кто-то из великих? Вот в этой, например, квартире? Как садиться на широкий диван в передней, где любил сидеть Толстой, часто заходивший сюда по пути к себе, в Хамовники, как ставить зонт в сохранившуюся чугуную подставку у дверей, куда Чехов совал свою трость. «Не забудешь, уходя, где оставил свою палку или зонт», — говорил при этом. Он ведь в прямом смысле лечил здесь всю семью и бывал регулярно до смертельного своего отъезда в Германию. Как притронуться к самовару, который любил разжигать здесь Куприн? Наконец, как реально не рухнуть, увидев висящую на печной заслонке завязанную узлом кочергу («в припадке удали»), как напоминание о чудовищной силе хозяина дома — поэта, прозаика, журналиста, более того, признанного «короля репортеров» и мемуариста Владимира Алексеевича Гиляровского. А ведь это только часть чудесного дома «дяди Гиляя», где он, с женой Марией Ивановной Мурзинойи дочерью Надеждой, прожил без малого полвека! Кстати, имя это, «дядя Гиляй», дал ему Чехов, и оно настолько прижилось, что он даже подписывал им свои заметки и репортажи в «Русском слове».
В квартире сохранился и другой диван, уже в гостиной, который звали «вагончиком», ибо на нем плотно усаживались на посиделках, прозванных «столешниками», гости дома: Г. Успенский, В. Короленко, М. Горький, Л. Андреев, А. Суворин, В. Дорошевич, Н. Телешов, А. Амфитеатров, А. Луначарский. Все равные друг перед другом и перед хозяином дома, который забавлял их детективными рассказами о своей жизни и работе. «Бросай ты свою московскую хронику! — призывал тут Гиляровского Чехов. — Займись рассказами». — «От моих опытов в этой области осталось немного, — отнекивался Гиляровский, — а остальное легким дымком взвилось во дворе московской полицейской части, когда сжигалась моя первая запрещенная книга „Трущобные люди“».
Это правда, но ныне в четырех томах опубликовано все написанное им. И сожженная книга («Такую правду писать нельзя», — сказали ему в цензуре), и знаменитые: «Москва и москвичи», «Мои скитания», «Москва газетная», «Люди театра», «Друзья и встречи», даже «Московские нищие», даже быль в стихах «Портной Ерошка и тараканы» и поэма «Стенька Разин». Все сохранила история литературы.
Сын запорожской казачки (с Гиляровского Репин писал в 1891 г. хохочущего казака в белой папахе и красной свитке для своей картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», а скульптор Николай Андреев изваял его в образе Тараса Бульбы на пьедестале памятника Гоголю), он многое повидал на своем веку. В 16 лет, сбежав из дома, был, вообразите, бурлаком на Волге (вот в точности как на картине все того же Репина), работал ключником, истопником, пожарным, табунщиком, наездником в цирке, учился в юнкерском училище, откуда был изгнан, но воевал еще в Крымскую войну, наконец, актерствовал на сценах Тамбова, Воронежа, Пензы и Саратова. Да и в Москве появился как актер. Но страсть к стихам (первый стих был опубликован еще в 1873 г.), к литературе и запаху газетных гранок победила. Дальше можно перечислять только издания, в которых сотрудничал, всегда оказываясь первым в самых опасных или знаковых местах.
Вообще, на месте этого дома до 1874 г. стояло здание, где жил с 1850-х гг. армянский поэт, прозаик и философ Михаил (Микаэл) Лазаревич Налбандян(наст. фамилия Налбандов). Но, купив этот участок, здесь построил нынешнее здание камер-юнкер, прозаик и москвовед Дмитрий Иванович Никифоров. И вот вопрос: когда они познакомились — Никифоров и Гиляровский? Ведь последний до переезда в этот дом, три года, с 1886 по 1889-й, жил в соседнем доме, в доме № 11, который также сохранился доныне? Общим в прошлом Никифорова и Гиляровского было лишь участие в Крымской кампании, где Никифоров оборонял Севастополь и даже был награжден золотой саблей «За храбрость». Может, это сыграло свою роль в переезде Гиляровского с семьей в никифоровский дом? Не знаю, но знакомы, судя по всему, были, ибо в будущем их интересы странным образом сошлись; ведь Никифоров, кто не знает, стал известным писателем, но главное в нашем случае — москвоведом. Славился своими воспоминаниями, знанием быта московских царей и за пять лет до смерти, в 1902 г., выпустил двухтомник «Старая Москва». Ну как двум этим людям было не дружить?
Впрочем, Никифоров был не единственным из полузабытых ныне литераторов конца ХIХ — начала ХХ в. Бывали здесь кроме уже названных и знаменитых актеров Шаляпина, Качалова, Южина, Немировича-Данченко, кроме Репина и Собинова писатели, чьи имена гремели тогда, — Андрей Белый, Серафимович, Скиталец — и менее известные ныне, но плодовитые и популярные в те дни: Иван Мясницкий, автор «толстенных романов из московской жизни», Алексей Пазухин, Александр Лазарев-Грузинский, Евгений Опочинин (близкий знакомый Достоевского), Александр Круглов, Иван Забелин, Вукол Лавров, редактор «Русской мысли», Александр Гольцев и многие другие.
Наконец, здесь бывали вдовы Толстого и Достоевского, а потом и дети этих писателей. И не «на чай» приходили, посидеть и поболтать — за помощью, за поддержкой, за «авторитетным голосом» среди читающей России хозяина дома.
Голос Гиляровского и в прямом, и в переносном смысле слова остался и при советской власти, он до последних дней печатался в газетах. А вот зрение к концу жизни, к 1930-м гг., он потерял полностью. Но, видимо, такова была сила духа этого человека, что он сумел, представьте, выучиться писать вслепую. Ну, разве это не признак высокой писательской миссии и озабоченного судьбами страны Гражданина?!
Остается добавить, что в этом же доме с 1891 г. жила поэтесса, прозаик, драматург и переводчица Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. А уже в 1920–1930-х гг. здесь поселились и жили еще два поэта — Ипполит Васильевич Соколови поэт-песенник (песни «Вася-Василек», «Хороши весной в саду цветочки» и др.) и прозаик Сергей Яковлевич Алымов.
279. Страстной бул., 4(с.), — здание построено в 1901 г. (арх. И. Ф. Мейснер).
Дом знаменит, конечно же, именами писателей. До 1901 г., до возведения этого здания, здесь, в доме фабрикантов Кожевниковых (с 1778 по 1853 г.), у своего друга, гражданского губернатора Москвы Василия Степановича Перфильева, трижды (в 1878, 1879 и 1881 гг.) останавливался Лев Николаевич Толстой. Перфильев, утверждают, стал прототипом Стивы Облонского в романе «Анна Каренина».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
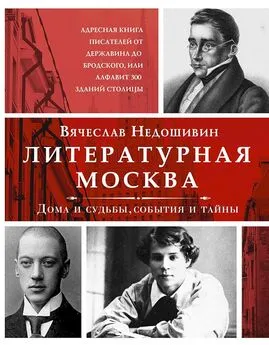
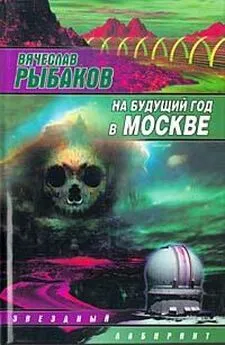



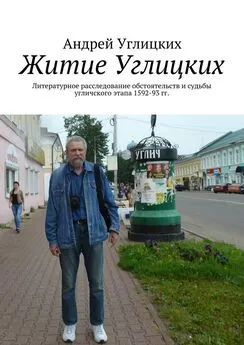
![Вячеслав Недошивин - Джордж Оруэлл. Неприступная душа [litres]](/books/1089688/vyacheslav-nedoshivin-dzhordzh-oruell-nepristupnaya-dush.webp)


