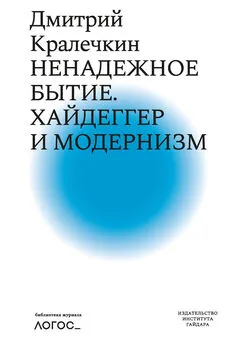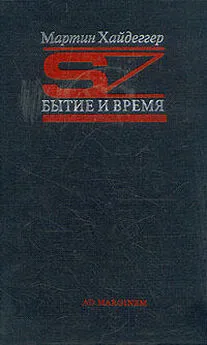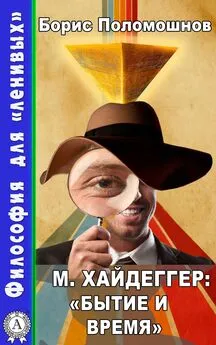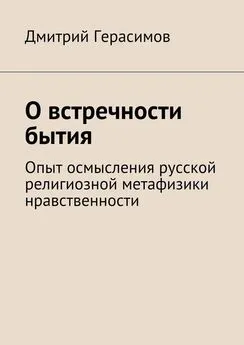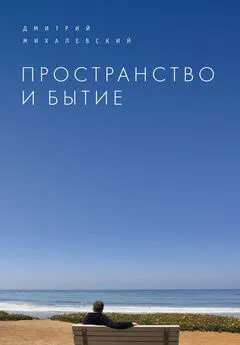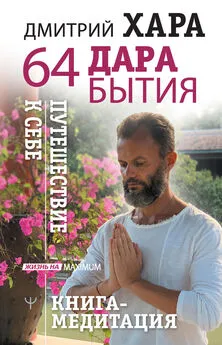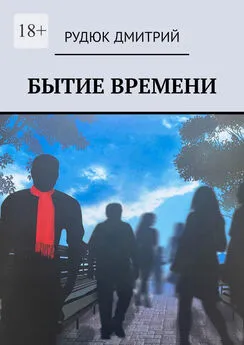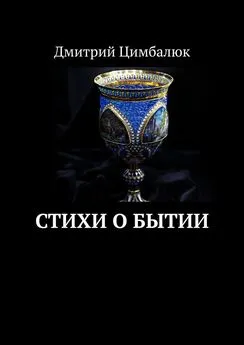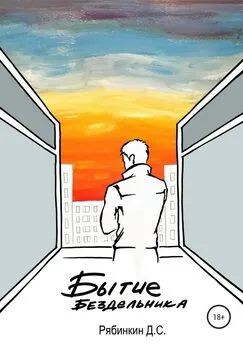Дмитрий Кралечкин - Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм
- Название:Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИЭП им.Гайдара
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93255-577-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Кралечкин - Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм краткое содержание
Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подлинная модернистская лаборатория и модернистский кабинет (в генеалогии Латур – Гёббельс) производит операцию подвешивания самой этой логики ремонта, все еще зависящей от понимания аутентичных инструментов как инструментов сохранения (самих себя и всего остального, к чему они прилагались). Таковы, например, инструменты логики, в том числе в ее классических вариантах: логика сохраняет саму себя, сохраняя истинностное значение всего того, к чему она правильно применяется. Лаборатория этим, однако, не довольствуется, расходясь с жизненным миром в том пункте, в котором она делает ставку на собственно «ставку»: разнообразные агенты, субстанции, протоколы и т. п., вступающие в паратаксическое отношение (то есть в отношение, которое нельзя считать отношением, поскольку оно не обеспечивается никакими логически обособляемыми связями и связками), не являются ни элементами , ни инструментами в собственном смысле слова, это даже не объекты , поскольку любая атрибуция им тех или иных качеств – не то, для чего они нужны. Обсессия вечного ремонта сменяется обсессией ожидания, поскольку новое боится не пропажи, а, напротив, сохранения , соответственно, весь вопрос в том, как расположить «элементы» так, чтобы они не остались в том расположении, которое им приписано, и в то же время не были просто использованы, истреблены сами собой, обветшав и придя в беспорядок. Феноменология вводит невозможное различие полного воспроизводства и пустого, тогда как модернистская сцена вводит невозможное различие заурядного беспорядка и маркированного. Первый достается от использованного, заезженного жизненного мира: беспорядок – не нечто искомое, это гарантированное состояние, которое отождествляется с рутинизацией и регулярностью. Правила руководства ума используются настолько часто, что это приводит к немаркированному, простому беспорядку, означающему невозможность отклониться от этих правил, так что сами они становятся чем-то самоочевидным, перестав выполнять ту продуктивную функцию, которая была у них поначалу. Отклонение от правил маркируется другим беспорядком, который вводит тему «творческой ошибки» в лаборатории, способной привести к радикальным переменам. Новое (формально) открывается, конечно, преимущественно за счет отступления от правил и протоколов, например, в результате плохо промытой посуды, ошибочных истолкований научных результатов и т. п., однако совершенно неясно, как можно начать с них, если они возможны только в сложной инфраструктуре нормальной лаборатории. Прорастание плесени в плохо промытых чашках Петри оказывается вторжением, которое ожидается в лаборатории в качестве неучтенного элемента (то есть не-элемента), ставки на то, на что поставить невозможно, поскольку его пока просто нет.
Однако работа с ошибками не может быть «работой», соответственно, действия Макса Блэка у Гёббельса не носят характера собственно рационального действия, это именно «приготовления», которые, однако, симптоматично отличаются от приготовлений и введений феноменологии, существовавшей в режиме вечного новоселья. Отличие в том, что приготовления Макса Блэка нацелены на то, чтобы неполнота сыграла сама по себе , а не путем восстановления феноменологической полноты: соответственно, вопрос в том, как на месте одного потерянного может найтись что-то другое (что в быту, конечно, невозможно, по крайней мере мы так считаем). Обычная интерпретация – предполагающая, что неожиданные элементы вступают в некое взаимодействие, переходят от паратаксиса к какому-то продуктивному состоянию, начинают жить своей жизнью, организуясь в виде, например, «сцены», – сама по себе все еще слишком метафизична, поскольку она не отступает от феноменологического ремонта, нацеленного именно на такое взаимодействие, в котором все спорится и у всего есть своя продуктивная роль. В действительности такие интерпретации являются, скорее, формально-семиотическими, предполагая, что индуцируемая неполнота сама по себе имеет риторический характер, а потому операции с полнотой/неполнотой, частями и элементами становятся попросту риторическими операциями, позволяющими – за счет постоянной парциализации – индуцировать еще и полноту, которая, однако, каждый раз предстает в другом свете (точно так же, как, к примеру, метонимия «погоны» полагает соответствующих чиновников или служащих, то есть денотативную группу населения, в совершенно особом и даже искаженном свете – уже потому, что метонимия всегда требует перспективизма, конструкции целого со своей собственной точки зрения). Этих операций – то есть риторической магии, позволяющей за счет перестановок и парциализации индуцировать неожиданные целые объекты – для модернистского кабинета или сцены, однако, недостаточно, поскольку такая магия в действительности склонна к самообману, ведь ее эффекты носят показной характер: чтобы произвести новое, мы должны буквально поверить в то, что индуцируемое целое было нам неизвестно, тогда как на деле все ограничивается практикой умолчания и иллюзионизма: например, мы должны забыть о том, что утренняя звезда – еще и вечерняя, и удивиться тому, что вечерняя звезда встает и утром, являя собой необыкновенное совпадение.
Так что, хотя Макс Блэк у Гёббельса, несомненно, занимается – помимо прочего – риторикой частей, которые обязательно должны указывать на нечто большее, ставка, однако, носит рефлексивный характер в том смысле, что это большее не должно оставить от частей камня на камне. Неопределенные, неожиданные, «странные», части, их расстановка и т. п. создает, разумеется, чисто риторический эффект отсылки к тому, частями чего они являются, но, по сути, это ставка исключительно на то, чтобы такой эффект отыгрывался и на самих частях, создавая петлю обратной связи, разгоняя риторику до самовозгорания: сцена (как лишь одна из фигур в этой риторической магии) – не столько жизненный мир, в котором спорится дело, сколько реактор, который запускается за счет обратной связи части и целого. Соответственно, элементы перестают быть элементами в буквальном смысле слова, поскольку самовозгорание (и поджигание) элементов означает такую их перекройку, которая каждый раз вынуждена начинать с нуля, когда скорость движения по стандартной герменевтической петле обратной связи (часть/целое, content/vehicle, значение/референт и т. д.) достигает максимума. Можно начать с привычной расстановки: зеленая лампа, патефон и т. д., но множество «странных» элементов служит лишь иллюстрацией того, что они нужны не просто так, не сами по себе, не в качестве следов былого удобства и сегодняшнего неудобства (загромождения), то есть все дело в том, что они должны перестать быть иллюстрацией (в конечном счете самих себя). Иллюстративная логика все еще оставалась бы в плену феноменологии, поскольку подразумевала бы ту или иную риторическую уловку, не допускающую производства нового за счет паратаксиса: всякая отсылка к недостающим частям уже обозначала бы эти части в качестве частей чего-то , так что любые действия в кабинете (или на сцене-кабинете) не вполне убедительны (в том числе и для самих себя, а также для владельца кабинета или «безумного ученого»). Соответственно, нужно такое нагромождение, такая расстановка, которая бы запустила процесс самовозгорания частей и целого, вопрос лишь в том, что логически такого нагромождения или скопления достичь невозможно – критической массы не существует.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: