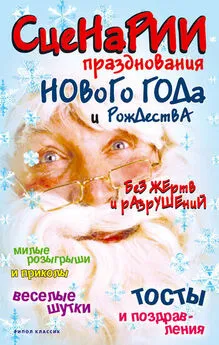Коллектив авторов - Опыт словаря нового мышления
- Название:Опыт словаря нового мышления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-01-002295-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Опыт словаря нового мышления краткое содержание
Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными.
Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы. Бюрократической собственностью, "объектами присвоения" бюрократов, функционирующих на нематериальном "поле" управления, выступают не вещи или люди, а бесчисленные соединения между ними, абсолютно необходимые для нормальной жизнедеятельности общества.
Сообщество бюрократов захватывает не натуральные продукты как таковые, а функцию распоряжения ими, их монопольного распределения между людьми, то есть условия и возможность их фактического использования. Объектом корпоративной собственности бюрократии становится сам общественный процесс, сюда же попадают главные уровни и функции человеческой деятельности, отчужденные у людей с помощью распорядительной власти, сумевшей уйти из-под жесткого народного контроля.
Говоря иными словами, под страхом наказания бюрократы командуют: "Руки вверх!" Некто ими владеет - своими руками. Но что проку? Этими руками распоряжаются другие, имея со своей стороны полную возможность диктовать, для чего именно и на какой срок их освободят, чтобы загрузить предписанной работой.
К.Маркс еще в молодые годы писал: "Бюрократия имеет в своем обладании государство... это есть ее частная собственность". Чиновник, монопольно владеющий государственной структурой и ее властными функциями, становится бюрократом-собственником. Именно он раздувает роль государства в обществе до чудовищных масштабов, преследует демократические институты, доводя дело до "огосударствления" всего социума и расширяя таким путем размеры своего владения. Бюрократия превращает общество в казенный дом, тюрьму, концлагерь, в котором свободная самодеятельность населения замещается административным уставом.
Сейчас про сборник «50/50...» можно сказать ещё и то, что он является интереснейшим культурным феноменом, поскольку в нём зафиксированы точки зрения на общество и науку, существовавшие на апогее Перестройки, и которых через пару лет уже не было.
Опыт словаря нового мышления - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С установлением понятия «достояние общественности» политика превратилась в специфическую общественную сферу деятельности. Изменяется сам облик власти, реальные отношения между «верхами» и «низами»: достояние общественности приобретает признанное и узаконенное влияние на политическую власть. Процесс ликвидации секретного характера власти противоречив и непрямолинеен: победа гласной власти над тайной не гарантирована. Чаще всего происходит процесс постоянного, непрерывного перемещения границ, характеризующийся, с одной стороны, постепенным подчинением общественному контролю бывших запретных зон, а с другой стороны, параллельным уводом из сферы достояния общественности новых видов деятельности, не попавших под такой контроль.
Если нужны конкретные примеры, то достаточно вспомнить о существовании при современной демократии «государственных тайн», которые, хотя и регулируются специальным законодательством и отличаются от arcana imperil, все реже оставляют для государственной власти широкое поле для секретных маневров (например, в военной области) или осуществления контроля за печатью посредством монополизации средств массовой информации. Монополии в области информации - политические (радио- и телевизионные системы) или экономические (группы «Бильд» в ФРГ или «Эрсан» во Франции) - насаждают одностороннее использование средств массового общения: таким образом, индустрия информации принимает вид фабрики по производству единомыслия. Встает вопрос: почему, например, французские газеты (начиная с «Монд» и кончая «Либерасьон» и «Фигаро») преуменьшили последствия аварии в Чернобыле и посмеивались над другими европейскими газетами? Что это, если не попытка оправдать ядерную политику собственного правительства? Отношение французской прессы к чернобыльской катастрофе во многом показательно и демонстрирует некоторые аспекты обращения с тем, что является достоянием общественности, и его роли в западных обществах. «Восьмиугольник не пострадал», - уверенно гласил заголовок в «Либерасьон», однако каким образом это произошло, понять было невозможно, туманные разъяснения ученых и специалистов воспроизводились безо всякого критического осмысления (возможно, храбрые пограничники все дружно принялись дуть и прогнали зловещее облако?). Речи ученых никоим образом не ставились под сомнение именно потому, что это было «научно»: короче говоря, общественное мнение спокойно предоставило специалистам руководство в вопросе, прямо касающемся жизни каждого гражданина. Проникновение «технократов» в институты власти резко сокращает возможности контроля со стороны общественности. Заверения сопровождались изгнанием духа опасности, принимались безо всякой проверки первые данные, предоставленные американцами, осуждалось молчание советской стороны. (В конце концов спустя три дня СССР начал давать информацию: кстати, если бы подобный случай произошел на Западе, получили ли бы мы информацию быстрее? Вряд ли, если учитывать реакцию на аналогичные ситуации ранее.) Если случается несчастье, оно случается не у нас, во всяком случае, мы от него застрахованы благодаря демократическому характеру нашего общества, который, однако, не распространяется на научную тайну.
Какие же выводы можно сделать из этого примера, небольшого, но характерного? В западных обществах сегодня наблюдается двойной процесс ограничения властью достояния общественности. С одной стороны, монополизация средств массовой коммуникации приводит к манипулированию общественным мнением и даже к созданию необщественного мнения, обеспечивая авторитет и единогласную некритическую поддержку правящим группам. Таинственное молчание скрывает ядерные инциденты, данные о загрязнении среды, выходки секретных служб (например, случай с «Рейнбоу Уорриор»), привычные запретные зоны, не поддающиеся гласности. С другой стороны, постепенное «онаучивание» власти ведет к нарастающей деполитизации общества, лишенного возможности активного вмешательства в решение проблем, представляющих всеобщий интерес. Здесь вновь красноречивы примеры из области применения атома: будучи весьма сложным сооружением, заражающим к тому же окружающую среду, атомная электростанция не поддается никакому демократическому контролю.
Бернар Эдельман
Как и всякая свобода, свобода печати управляется следующим парадоксальным принципом: организовать ее - значит ограничить, дать ей полную свободу - значит ее убить.
Если первая часть формулы отвечает здравому смыслу, который далеко не всегда адекватен смыслу юридическому, то вторая вызывает смутные сомнения. И тем не менее! Представим на минутку, что печать может не просто «говорить все», но «говорить все безнаказанно»! Представим, что она пользуется непомерной привилегией клеветать на людей, чернить их, лгать, пользуясь полным иммунитетом, И сразу же будет виден весь ужас ситуации: рождение новой тирании.
Поэтому - и тут выступает еще один парадокс - все школьники Франции, все влюбленные и любители писать на стенах знакомятся со свободой печати в форме запрещения,воспроизводимого крупными буквами на стенах школ и других общественных зданий: «Надписи запрещены. Закон от 29 июля 1881 г.!»
В общем и целом французы удовлетворены этим почтенным законом, который за столетие с небольшим со дня его принятия был лишь кое-где подправлен последующими законами, не исказившими его сути. Я имею в виду, в частности, закон о недопустимости расовой ненависти, принятый 1 июля 1972 г., и декрет от 18 марта 1988 г., запрещающий публичное ношение униформы, знаков и эмблем организаций или лиц, признанных виновными в преступлениях против человечности. Не будем удивляться тому, что этот декрет включен в рамки закона о печати,поскольку под этой формулой следует понимать все формы выражения, в какие может облекаться мысль… включая и всякого рода униформы.
В чем же секрет этой устойчивости, да еще во времена, когда законы изменяются по воле политического большинства; в чем тайна долголетия закона, в чем причина всеобщего согласия, которое вдвойне поразительно, если учесть, что возникло оно среди народа, отличающегося своей склонностью к фрондированию, и сформировалось на той самой почве, где эта фронда проявляется?
Это зависит не только от величественных принципов, которыми отмечен закон от 29 июля 1881 г. - «Книгопечатание и книготорговля свободны» (статья 1), «Любая газета или другое периодическое издание могут быть опубликованы без предварительного разрешения и внесения залога…» (статья 5), - поскольку мы знаем, что самые лучшие принципы могут быть подорваны существующей практикой или посредством исключений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: