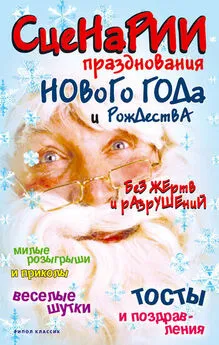Коллектив авторов - Опыт словаря нового мышления
- Название:Опыт словаря нового мышления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-01-002295-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Опыт словаря нового мышления краткое содержание
Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными.
Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы. Бюрократической собственностью, "объектами присвоения" бюрократов, функционирующих на нематериальном "поле" управления, выступают не вещи или люди, а бесчисленные соединения между ними, абсолютно необходимые для нормальной жизнедеятельности общества.
Сообщество бюрократов захватывает не натуральные продукты как таковые, а функцию распоряжения ими, их монопольного распределения между людьми, то есть условия и возможность их фактического использования. Объектом корпоративной собственности бюрократии становится сам общественный процесс, сюда же попадают главные уровни и функции человеческой деятельности, отчужденные у людей с помощью распорядительной власти, сумевшей уйти из-под жесткого народного контроля.
Говоря иными словами, под страхом наказания бюрократы командуют: "Руки вверх!" Некто ими владеет - своими руками. Но что проку? Этими руками распоряжаются другие, имея со своей стороны полную возможность диктовать, для чего именно и на какой срок их освободят, чтобы загрузить предписанной работой.
К.Маркс еще в молодые годы писал: "Бюрократия имеет в своем обладании государство... это есть ее частная собственность". Чиновник, монопольно владеющий государственной структурой и ее властными функциями, становится бюрократом-собственником. Именно он раздувает роль государства в обществе до чудовищных масштабов, преследует демократические институты, доводя дело до "огосударствления" всего социума и расширяя таким путем размеры своего владения. Бюрократия превращает общество в казенный дом, тюрьму, концлагерь, в котором свободная самодеятельность населения замещается административным уставом.
Сейчас про сборник «50/50...» можно сказать ещё и то, что он является интереснейшим культурным феноменом, поскольку в нём зафиксированы точки зрения на общество и науку, существовавшие на апогее Перестройки, и которых через пару лет уже не было.
Опыт словаря нового мышления - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между тем - это во-вторых - гласность в СССР остается весьма неполной, не захватывает высших уровней иерархии и многих важнейших проблем. Печать, особенно провинциальная, еще стеснена; случаи запрета на публикацию статьи или показ фильма не исчезли; предварительная цензура лишь приняла менее механические и явные формы. Она осуществляется теперь прежде всего в виде «советов» партаппаратчиков на стадии версии. Люди, настроенные скептически, указывают, что ни в первые недели апокалипсического Чернобыля, ни после трагедий Сумгаита и Тбилиси, ни даже в ходе благоприятных изменений в составе советского руководства в октябре 1988 года гласности не было и в помине. Это крайне затруднило, например, решение закавказских коллизий.
Казалось бы, свободней всего ныне можно штопать прорехи в знании советского прошлого. Но и это дозировано. Скажем, никто еще не затрагивал деятельности и роли Андропова - от венгерских событий до 1981 года; новые мифы занимают место беспристрастного анализа текстов и поведения Н. Бухарина. Особенно важно то, что трагическая и сложная фигура Ленина продолжает у нас оставаться предметом культа, но не раскованного, всестороннего и трезвого исторического анализа.
У нас любят сокрушаться о «внутреннем цензоре», т. е. о привычке к боязливому самоограничению. Это так, но «внутренний цензор» - лишь тень цензора внешнего. Уберите заслон, исчезнет и его тень в сознании пишущих.
Все же язвительность в адрес советской гласности, сколько бы для нее ни нашлось фактических поводов, не слишком уместна. Чтобы, не впадая в поверхностный оптимизм, отдать должное советским политическим переменам, надо ни на минуту не забывать, что при Хрущеве и Брежневе основания сталинской системы ничуть не были подорваны. Надо оценить, что значит очнуться не после сна, а после летаргии. Надо все же помнить, где мы находились до января 1987 г.
Создание народных фронтов в поддержку перестройки в Прибалтике, возникновение в стране тысяч неформальных общественно-политических клубов, яростное разоблачение в печати Сталина и сталинизма - вот те итоги 1988 года, которые свидетельствуют об успехах гласности, вряд ли обратимых. Однако много ли мы знаем о тех же прибалтийских событиях? Выпады против прессы на Всесоюзной партконференции, обструкция большинства делегатов при выступлениях в поддержку независимого слова, выразившаяся и в результатах голосований; указы от 28 июля 1988 г. о демонстрациях и «внутренних войсках» - все это подтверждает, что трудные роды гласности отнюдь не закончились. Опасно для радикальной перестройки общества то, что, если гласность надолго закрепится на нынешнем начальном уровне, она может превратиться в модернизированную застойную форму «выпускания пара». Хорошо, что печать не воспринимается больше как директивный голос свыше; зато и бюрократы не обращают внимания на ее критику. «У нас-де теперь плюрализм, мало ли что пишут и говорят…» В этом смысле «гласность» - парадокс для нас вовсе не случайный, но системный - снизила, а подчас и отменила практическую эффективность телевизионного или газетного выступления.
Наряду с официальной, государственно-партийной прессой совершенно необходимо появление независимых изданий и издательств. Гласность, становясь все более привычной, естественной, неограниченной - попутно и в меру демократизации политической системы, и укоренения рыночной экономики, - создала бы условия для… отмирания «гласности» в ее специфической российской форме. Гласность, т.е. разрешение говорить многое и о многом, сменилась бы «обычной» демократической свободой слова, свободой говорить без разрешения, обеспеченной всеми институтами и обычаями гражданского общества.
Все дело тут, однако, в сроках. Двадцать лет тому назад нынешней гласности - при Хрущеве ее не было! - возможно, оказалось бы достаточно, чтобы обеспечить главное, шаг за шагом, возвращение в мировую цивилизацию. Сейчас же песок в часах на исходе. Поэтому переход от гласности к гарантированной свободе слова необходим неуклонный и сравнительно быстрый. А пока «гласность» - понятие, объем которого остается в Советском Союзе предметом напряженной политической борьбы.
Мария Ферретти
Распространенный сегодня перевод слова «гласность» как transparence (открытость) неадекватен и уводит в сторону, так как снова отсылает к образу открытого общества, термину, долгое время употреблявшемуся в Советском Союзе и большинством советологов. Термин «гласность» происходит от слова «голос», «возможность говорить». Термин имеет и сильный юридический аспект (гласный процесс означает публичный процесс в отличие от процесса закрытого). Поэтому правильнее было бы переводить гласность как publicitй (публичность) в том значении этого термина, которое было сформулировано Ю. Хабермасом и в котором открытость является лишь одним из аспектов. Однако в связи с тем основным значением, которое слово «publicitй» приобрело в неолатинских языках, мы предпочитаем употреблять здесь термин «достояние общественности».
Достоянием общественности здесь будет называться та область общественной жизни, в которой общественность осуществляет контроль за политической властью. Этот институт открыт для всех граждан и защищает их во время обсуждения общественно значимых вопросов от любого давления извне, дает гарантии свободы собраний и создания организаций, свободы выражения и распространения в печати своего мнения. Естественно, речь идет о теоретическом термине, употребимом в данном контексте: абсолютной свободы на практике не существует, поэтому реальное содержание термина «достояние общественности» каждый раз зависит от степени равновесия между властью и общественными силами.
Со времен американской и Французской революций, утвердивших Конституцию как документ, узаконивший власть на основе принципов естественного права и общественного договора, появление понятия «достояние общественности» стало приметой развития современного демократического государства. Закрепленное в Конституции разделение власти устанавливает законность общественного контроля над политической властью: безраздельная власть именно потому бесконтрольна, что недоступным является и место, где принимаются решения, и сами они носят элитарный характер (arcana imperii - государственная тайна абсолютных монархий). В понимании классической политической мысли гласный характер власти служит границей между абсолютной монархией и деспотизмом, с одной стороны, и республикой - с другой, где понятие «республика» имеет двойное значение: системы, подлежащей общественному контролю, и рассекреченной власти.
Существование достояния общественности ставит границы государственной власти, произволу, бесконечному множеству «секретных» законодательств, «закрытых» нормативных актов (инструкций, внутренних циркуляров): на смену arcana imperii приходит правовое государство. Политическая власть вынуждена подчиниться контролю общественности, а это предполагает существование независимого гражданского общества и институтов, способных обеспечить выражение его интересов, например свободы слова (Гайд-парк), организаций и печати. Начиная со второй половины XIX века в европейских странах постепенно устанавливается свобода создания организаций, что приводит к образованию современных партий, которые, утвердившись в качестве общественных политических организаций, заменяют собой корпорации, частную систему охраны интересов социальных групп. С появлением свободы печати общественный дух (в том виде, в котором он представляется, например, в «Наказах третьего сословия депутатам Генеральных штатов», в частной форме выражения мнений) превращается в общественное мнение, обеспечивающее гласность власти и придающее истинное содержание политическому представительству (представительная демократия предполагает гласность парламентских дебатов).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: