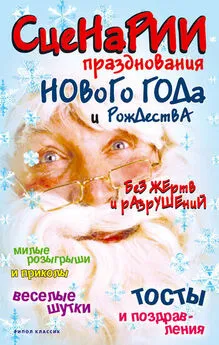Коллектив авторов - Опыт словаря нового мышления
- Название:Опыт словаря нового мышления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-01-002295-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Опыт словаря нового мышления краткое содержание
Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными.
Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы. Бюрократической собственностью, "объектами присвоения" бюрократов, функционирующих на нематериальном "поле" управления, выступают не вещи или люди, а бесчисленные соединения между ними, абсолютно необходимые для нормальной жизнедеятельности общества.
Сообщество бюрократов захватывает не натуральные продукты как таковые, а функцию распоряжения ими, их монопольного распределения между людьми, то есть условия и возможность их фактического использования. Объектом корпоративной собственности бюрократии становится сам общественный процесс, сюда же попадают главные уровни и функции человеческой деятельности, отчужденные у людей с помощью распорядительной власти, сумевшей уйти из-под жесткого народного контроля.
Говоря иными словами, под страхом наказания бюрократы командуют: "Руки вверх!" Некто ими владеет - своими руками. Но что проку? Этими руками распоряжаются другие, имея со своей стороны полную возможность диктовать, для чего именно и на какой срок их освободят, чтобы загрузить предписанной работой.
К.Маркс еще в молодые годы писал: "Бюрократия имеет в своем обладании государство... это есть ее частная собственность". Чиновник, монопольно владеющий государственной структурой и ее властными функциями, становится бюрократом-собственником. Именно он раздувает роль государства в обществе до чудовищных масштабов, преследует демократические институты, доводя дело до "огосударствления" всего социума и расширяя таким путем размеры своего владения. Бюрократия превращает общество в казенный дом, тюрьму, концлагерь, в котором свободная самодеятельность населения замещается административным уставом.
Сейчас про сборник «50/50...» можно сказать ещё и то, что он является интереснейшим культурным феноменом, поскольку в нём зафиксированы точки зрения на общество и науку, существовавшие на апогее Перестройки, и которых через пару лет уже не было.
Опыт словаря нового мышления - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для данной таксономии существенна типология потребления продукта художественного творчества - нового художественного языка в его элитарном и массовом диалектах. Диффузия элитарного и массового спроса приводит к тому, что художественное творчество признается общественной ценностью лишь post festum («после праздника») на стадии уже далеко зашедшей стагнации нового художественного языка и, как правило, после смерти самого художника.
Иррелигиозность (или неоязычество) современного западного и ориентированных на него обществ превращает акт художественного творчества в суррогат жертвоприношения, а художника - в жреца и жертву социальной силы, прослойки, идеологии или политической власти.
Становясь настоящей жертвой, художник, однако, напоминает бодрым носителям здравого смысла, что он - не они, что художественное творчество не утратило своей неизмеримой тайной силы и господство «технического искусства», «реалистический утилитаризм» не лишили художника его природы.
Как состояние личности, в котором сознательное подчинено бессознательному и может быть всецело растворено в нем, художественное творчество мало поддается описанию на языке внерелигиозной рациональности, языке, вполне пригодном для характеристики события (или акта) художественного творчества. Как состояние личности, оно есть выражение предельной покорности абсолюту (Богу, Природе, Судьбе).
Живя по закону «глина, не спорь с горшечником», художник, просыпающийся в человеке и пробуждающий его для творчества, не колеблется и не сомневается, но сразу - вне обычного течения времени - находит то, чего в обыденном смысле и не искал.
Никакими доказательствами того, что данное состояние личности и есть художественное творчество, индивид не располагает и может в них не нуждаться. Но безотчетное стремление найти подтверждение этому «у людей» или в мистическом слиянии с абсолютом делает внутреннюю жизнь художника в точности такой, как описал ее у Платона Сократ со слов своей наставницы Диотимы: «Он наг, необут и бездомен».
Суверенитет
Клэр Мурадян
И в предыдущих и в нынешнем текстах советской Конституции статья, где говорится о том, что за союзной республикой «сохраняется право свободного выхода из СССР» (статья 72 Конституции 1977 года), хотя о процедуре использования этого права умалчивается, является единственной статьей, позволяющей нарядить советские социалистические республики в тогу «суверенных государств». «Государства» - эти административно-территориальные образования, большинство населения в которых принадлежит к определенной национальности, - являются таковыми лишь в том смысле, что они - составная часть более общей государственной сущности. «Суверенные» - но они как раз и требуют, чтобы стать наконец таковыми, как об этом свидетельствует силовое противоборство с центральной властью, которое ведут уже несколько месяцев окраинные республики, прежде всего кавказские и прибалтийские, хотя при этом требование действительной национальной независимости выражается в различных, не обязательно сепаратистских, формах и с разной степенью смелости, учитывая груз прошлого, географические факторы и специфическую ситуацию.
Мобилизация сил происходит или вокруг «изначального» территориального притязания по отношению к соседней «вражеской» республике (требование армян о присоединении Нагорного Карабаха к Армении как единственная гарантия соблюдения общечеловеческих и национальных прав армянского населения, составляющего большинство в этой области, и требование азербайджанцев управлять этой территорией так, как они считают нужным, учитывая интересы проживающего там армянского меньшинства), или же вокруг политических лозунгов более общего характера, непосредственно направленных против центральной власти, как это имеет место у прибалтов, предлагающих предоставить республикам право вето в качестве гарантии их автономии по отношению к Москве. В обоих случаях цель идентична. Речь идет о стремлении добиться автономии, «права народов на самоопределение», которое после Войны за независимость Соединенных Штатов легло в основу всех освободительных движений против иноземного империализма и колониальных держав, независимо от того, в каких идеологических «одеяниях» они выступают.
Каким бы искусственным оно ни было, «право выхода», эта тактическая уступка Ленина нациям, более строптивым, чем он мог бы подумать, и не пожелавшим добровольно остаться в подчинении у русских, даже когда те стали советской и пролетарской нацией, означает для народов (и при условии, что им будет пожаловано звание республики) единственную возможность завоевать или отвоевать свободу. Это право может перестать быть пустым звуком в тот день, когда нации почувствуют, что они уже в состоянии думать о формах его практического осуществления. Отсюда волнения, вызванные слухами об упразднении этого последнего атрибута национального суверенитета в результате подготавливаемых в настоящее время поправок к Конституции. В связи с главными проблемами политической философии в области как государственного, так и международного права понятие суверенитета неизменно сочетается с понятием законности, применяется ли это определение прерогатив верховной власти к монарху, к политической власти, к народу, к государству или к нации. А согласно духу новейших законов, единственная законность заключается в соответствии революционным целям. Изначальная двойственность термина «суверенитет», который, как указывает Кант, может сопровождаться определениями «наивысший» или «наиболее законченный» (в этом случае в плане его развития), позволяет постоянно переходить от одного смысла к другому, т. е. непрерывно смешивать два разных понятия - «суверенитет» как исключительную прерогативу юридической власти и / или как политическую реальность, т. е. действительную (в смысле потенциальную) способность пользоваться этой прерогативой. Это тем более облегчает задачу советских марксистских юристов, для которых не может существовать «естественного (или идеального) права», стоящего над государственными институтами и имеющего само по себе универсальное значение, и которые, следовательно, утверждают, что реальные права превалируют над формальными правами, короче говоря, что сила выше права. Эта чисто прагматическая концепция права наглядно прослеживается в использовании понятия «суверенитет» как в советской Конституции, так и на международной арене.
В советских конституциях это понятие всегда отсутствовало в разделе, посвященном политической системе, где определялись права гражданина, источники, форма и органы власти, которая, как считается, «принадлежит народу» (понятие «народ» к тому же имеет определенные границы), без указания на то, что этот народ «обладает суверенитетом», как это имеет место в конституциях западных демократий. Термин используется в русском значении слова «суверенитет» (которое только по своему звучанию совпадает с нашим словом - в русском языке не существует, и это следует отметить, полного его эквивалента) лишь в разделе, где речь идет о государственном и национальном устройстве СССР. В последней Конституции он появляется ровно три раза (в статьях 75, 76 и 81) -в виде существительного (когда речь идет о Союзе ССР) и исключительно в виде прилагательного (когда речь идет о союзной республике). Напомним эти статьи:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: