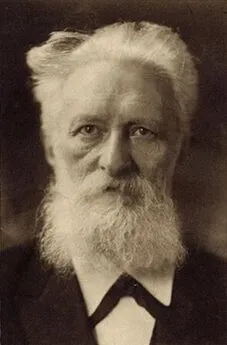Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики
- Название:Imperium. Философия истории и политики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Русский Мiръ»
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-904088-25-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики краткое содержание
Независимо от того факта, что книга постулирует неизбежность дальнейшей политической конфронтации существующих культурных сообществ, а также сообществ, пребывающих, по мнению автора, вне культуры, ее политологические и мировоззренческие прозрения чрезвычайно актуальны с исторической перспективы текущего, XXI столетия.
С научной точки зрения эту книгу критиковать бессмысленно. И не потому, что она ненаучна, а в силу того, что поднимаемые в ней вопросы, например патология культуры как живого сверхорганизма, по меньшей мере, недостаточно исследованы или замалчиваются из либеральных соображений.
Книга адресована самому широкому кругу читателей, небезразличных к политике, а также к судьбе человечества в целом.
Imperium. Философия истории и политики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Развитие общества — это не просто усложнение системы, оно предполагает отличие от того, что можно назвать «внешним миром». Система общества состоит из подсистем. С точки зрения частной системы, остальные выглядят как окружающий мир. Например, среди множества сел одно растет быстрее и берет на себя функции централизации. Так возникло новое различие города и деревни. Всякое изменение оказывается многократным изменением частной системы, представляет собой изменение внешнего мира и других частных систем. Отсюда для сохранения общества необходимы перегородки между системами, иначе изменения в одной из них могут взрывным путем или «эффектом домино» произвести изменения в остальных.
Луман существенно углубляет простой тезис об усилении дифференциации в процессе развития, ибо описывает трансформацию форм дифференциации. Они же являются и формами интеграции общества, которое воспроизводит свое единство через различие. Отсюда то, что с точки зрения целостности и единства кажется разинтегрированным, на самом деле оказывается сверхинтегрированным.
Если Луман, наоборот, утверждал, что современное общество достигло беспримерной стабильности своих функциональных систем, то Хабермас расценивал Модерн, как разинтегированное общество, где люди уже не объединяются на основе идей. Вслед за М. Вебером он полагал, что в естествознании исследуются предметы, которые не нуждаются в понимании, ибо не имеют свободы, а социальные науки изучают поведение человека, который признает институциональные правила [22] См.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 369 с.
. Социальная реальность формируется в интерсубъективном опыте совместного бытия людей. Жизненный мир является пространственно-временным миром, воспринимаемым до и вне всякой науки. Он кажется несомненным, вызывает доверие, не требует никаких дополнительных обоснований, ибо подтверждает себя путем постоянного повторения одного и того же. Повседневный жизненный мир представляет собой окружающую среду коммуникации, в которой человек принимает участие с неизбежной и регулярной повторяемостью [23] Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. 323 с.
.
Поскольку только один не может следовать правилу, постольку приходится допускать общую языковую игру, предполагающую интерсубъективную значимость социальных, юридических и этических норм. Согласно К.-O. Апелю тот, кто задумал обоснование своих суждений, должен участвовать в дискуссии и аргументации [24] Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. c. 242.
. В противном случае он не сможет обсуждать вопрос об оправдании принципов. Поэтому проблема обоснования решается следующим образом: тот, кто хочет обосновать норму, уже предполагает ее. Принадлежность к коммуникативному сообществу является не гипотетическим, а категорическим императивом. Практическое применение разума предполагает логические и этические условия коммуникации. Логика и этика не поддаются критической проверке, они надежны в «трансцендентально практическом» смысле [25] Там же. c. 312.
. Предельным основанием оказывается не «методический солипсизм», а интерсубъективное единство интерпретации.
Социальное пространство представляет собой архитектурно, технически и символически обустроенную среду обитания. В ней действуют общепринятые нормы поведения, и в ответ на одни действия люди ожидают других. Общественное пространство отличается от геометрического наличием культурной символики. Существуют пространства: приватные (дом), публичные (суд, театр, университет), сакральные (храм), экономические (рынок), а также пространства развлечения и отдыха (кафе, городские парки, центры отдыха, клубы). В каждом из перечисленных пространств существует своя «разметка», в соответствии с нею складываются социальные нормы и коды поведения. Благодаря этому каждый знает, каким образом окружающие будут реагировать на те или иные действия. В каком-то смысле это похоже на игру, например, в шахматы. Причем правила поведения во многих пространствах являются неписанными, но о них знают обитатели пространства. В других пространствах, соблюдение порядка в которых является особо значимым, вывешиваются инструкции. Благодаря этому общественная жизнь протекает более или менее нормально. Случаются аномалии и отклонения. Не все из них являются опасными. Некоторые подхватываются другими, становятся «модными», и таким образом происходит изменение общественного порядка.
Диалог индивида с социальным миром может приобретать самые разные формы: забота, жизнь, кооперация, борьба, господство и т. п. Если бы действия были спонтанными, неселектироваными и неартикулированными, они были бы подобны взрыву. Но даже революция или выкрик включают ритуал, технику, символ и правило. Не бывает просто революций: они подразделяются на буржуазные и пролетарские и т. п. Таким образом, существуют различные сценарии, организующие пространственные и временные взаимосвязи. Действия осуществляются не в пустоте, а в определенном классификационном поле и только благодаря этому могут быть поняты и истолкованы.
Проблема в том, что в разных культурах общественные пространства устроены по-разному. Когда люди переходят из одного пространства в другое, они должны ориентироваться. Всякий, даже самый благонамеренный, турист везет с собой «контрабанду», о существовании которой он не подозревает. Это — груз его установок и ожиданий, понятийный аппарат, а также сложные символические машины восприятия и понимания окружающей действительности. Если речь идет о научных понятиях, то они довольно быстро выявляются и контролируются. Гораздо сложнее обстоят дела с анализом разного рода ценностных предпочтений, социальных и моральных норм, а также правовых и экономических различий. Они обнаруживаются по мере накопления опыта сравнения «своего» и «чужого», а их оправдание требует достаточно трудоемкого изучения структур повседневной жизни той или иной посещаемой и изучаемой страны.
В противоположность герменевтике и теории коммуникации Йоки придерживался не вербальных, а силовых форм взаимного признания друг друга. В «Империуме» он высказывался о коммунизме довольно враждебно. Советский Союз — враг Европы. Однако по мере того как там усиливалось влияние Америки, его отношение к коммунистическим странам изменилось. СССР действительно оказался причудливой смесью, казалось, несогласующихся проектов — старого имперского и нового коммунистического. Отсюда амбивалентность восприятия: Россия как большой брат — для одних и как главный враг — для других. Разумеется, эти образы во многом создавались пропагандой. Но если посмотреть на них с точки зрения обыденного восприятия, то вопрос о том, является Россия врагом или соседом, нужно решать исходя из истории и современности. Конечно, русские постоянно что-то завоевывали и осваивали. Мы не номады-кочевники, но какой-то странствующий народ. Как англичане — люди моря, благодаря освоению морей создавшие империю, охватывающую большую часть поверхности Земли, так и русские — люди поля, любят постоянно перемещаться по поверхности Земли. Территория и ландшафт определили характер империй. Расширение нашего государства основывается не только на захвате и поколении, но и на соседстве и защите. Большинство народов вошли в состав России добровольно, ибо, как правило, они подверглись агрессии с двух сторон и выбирали наименьшее из зол. Отсюда — отношения соседства. Именно на них была основана советская политика «дружбы народов». И, тем не менее, после цветных революций целый ряд бывших республик относится к нам крайне враждебно. Конечно, это тоже результат пропаганды новых властей, которые боятся реставрации, но тот факт, что она поддерживается частью населения, все же заставляет задуматься о том, как реально складывались наши отношения. Естественно, малые народы, особенно национальная интеллигенция, испытывали тревогу, вызванную стиранием национальных различий, исчезновением самобытных культур. Интернационализм и космополитизм уступает место национализму и, хуже того, нацизму в кризисных состояниях общества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: