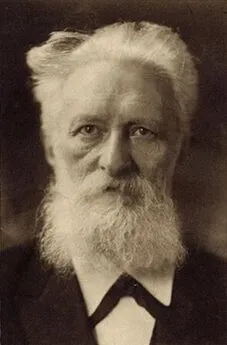Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики
- Название:Imperium. Философия истории и политики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Русский Мiръ»
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-904088-25-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнсис Паркер Йоки - Imperium. Философия истории и политики краткое содержание
Независимо от того факта, что книга постулирует неизбежность дальнейшей политической конфронтации существующих культурных сообществ, а также сообществ, пребывающих, по мнению автора, вне культуры, ее политологические и мировоззренческие прозрения чрезвычайно актуальны с исторической перспективы текущего, XXI столетия.
С научной точки зрения эту книгу критиковать бессмысленно. И не потому, что она ненаучна, а в силу того, что поднимаемые в ней вопросы, например патология культуры как живого сверхорганизма, по меньшей мере, недостаточно исследованы или замалчиваются из либеральных соображений.
Книга адресована самому широкому кругу читателей, небезразличных к политике, а также к судьбе человечества в целом.
Imperium. Философия истории и политики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С точки зрения семантики слово «человечество», однако, никого не исключает. Враг тоже человек, значит, у человечества не может быть врага. Поэтому либералы как поборники «одного государства» и интеллектуалы как поборники «человечества» погрязли именно в том, что собрались упразднить: в политике и войне. «Человечество» оказалось не миротворческим термином, а военным лозунгом. «Одно государство» осталось в мечтах. Политика продолжала править миром, извлекая пользу из всех нападок на нее.
Чем был бы мир без политики? Нигде не существовало бы защиты и повиновения, не было бы ни аристократии, ни демократии, ни империи, ни отечества, ни патриотизма, ни границ, ни таможен, ни правителей, ни политических ассамблей, ни начальников, ни подчиненных. В этом воображаемом мире, который должен был вот-вот возникнуть или установиться, отсутствовали бы люди, стремящиеся к приключениям и господству. Ни воли к власти, ни варварских инстинктов, ни преступников, ни чувства превосходства, ни мессианских идей, ни мятежников, ни программ действия, ни прозелитизма, ни амбиций, ни экономики выше личного уровня, ни иностранцев, ни рас, ни идей.
Здесь мы подходим к фундаментальному различию между политическим мышлением и просто рассуждениями о политике. Представления интеллектуалов о политике возводят в закон грандиозное заблуждение относительно человеческой природы.
Две политические антропологии
Пробный камень любой политической теории — это заложенные в ней этические представления о фундаментальном свойстве человеческой природы. В этом отношении возможны только две позиции: первая постулирует «доброго по природе» человека, а вторая представляет человеческую природу такой, как она есть. Под «добрым» понимается разумный, миролюбивый, способный и желающий совершенствоваться, обучаться и т. п.
Любая рационалистическая теория политики или государства считает человека по природе «добрым». Энциклопедисты, иллюминаты и последователи философии барона Гольбаха засвидетельствовали в XIX веке приход рационализма, и все они говорили о «несомненной доброте человеческой природы». Самым сильным и радикальным из писателей XVIII века в этом плане был Руссо. Вольтер, отвергавший сущностную доброту человеческой природы, категорически от него отмежевался.
Удивительно, как на подобном допущении вообще могла основываться политическая теория, поскольку политика актуальна только в форме размежевания друг-враг. Получается, что теория вражды основывается на том, что человеческая природа, в сущности, миролюбива и к вражде не склонна.
В середине XVIII века вошли в обиход и термин «либерализм», и комплекс связанных с ним идей. Если человеческая природа в своей основе добра, то она не нуждается в строгости , и можно быть «либеральным» . Эта идея зародилась в философии английского сенсуализма. Теорию общественного договора Руссо в предыдущем столетии обосновал англичанин Локк. Как таковой либерализм есть утверждение сенсуалистической, материалистической философии. Все ее ответвления по сути рационалистические, так что либерализм — это просто один из вариантов политического применения рационализма.
Ведущие политические философы XVII века, такие как Гоббс и Пуфендорф, считали «природным» обстоятельством существования государств постоянную опасность и риск, заставляющие их проявлять все инстинкты и импульсы зверей — голод, страх, ревность, всякого рода соперничество, вожделение. Гоббс отмечал, что настоящая враждебность возможна только между людьми, что по сравнению с животными размежевание друг-враг между людьми настолько же глубже, насколько человеческий мир духовно выше животного.
Два варианта политической антропологии иллюстрирует рассказ Карлейля о разговоре между Фридрихом Великим и Зальцером: последний сообщает о новом рационалистическом открытии, что человеческая природа, в сущности, добра. «Ach, mein lieber Salzer, Ihr kennt nicht diese verdammte Rasse», — промолвил Фридрих («…Вы плохо знаете эту чертову породу»).
На допущении доброты человеческой природы сформировались два основных теоретических ответвления. Безусловное принятие этого допущения связано с анархизмом, а либерализм опирается на него только ради ослабления государства и подчинения его «обществу». Один из первых либералов, Томас Пейн, выразил эту идею формулой, характерной и для сегодняшнего либерализма: общество есть результат наших разумно регулируемых потребностей, государство есть результат наших пороков. Анархизм более радикален в смысле полной убежденности в человеческой доброте.
Насквозь либеральная идея «равновесия сил» («balance of power») — это способ ослабления государства, подчинения его экономике. Она не может считаться теорией государства, будучи исключительно негативной. Не отрицая государства совсем, этот принцип работает на его децентрализацию и ослабление, лишение функции центра тяжести политического организма. Под этим организмом в данном случае понимается «общество» как рыхлое объединение свободных и независимых групп и индивидов, чья свобода ограничивается только обычным уголовным правом. Поэтому либерализм не возражает против того, чтобы индивид был могущественнее государства, стоял над законом. А вот к авторитету либерализм относится плохо. Государство как основной символ авторитета и два благородных сословия, на которые оно опирается, вызывают у либерала ненависть.
Анархизм, как радикальное отрицание государства и вообще любых организаций, есть чистое выражение политической силы. Теоретически он против политики, но по энергии это самая что ни на есть политика, заставляющая человека служить себе и настраивающая его враждебно ко всем остальным. На протяжении XIX столетия анархизм был силой, с которой приходилось считаться, хотя он почти всегда шел в союзе с другими движениями. Мощной политической реальностью анархизм стал, в частности, в России XIX — начала XX века. Там он был известен как нигилизм. Особая сила российского анархизма объяснялась его дополнительной притягательностью для глубокого антизападного чувства, сохранявшегося под тонкой петровской коркой. Быть против Запада означало быть против всего, поэтому антизападный азиатский негативизм вооружился западной теорией анархизма.
В свою очередь либерализм с его компромиссной, неопределенной позицией, неспособностью к четкому формулированию и пробуждению определенных чувств — как положительных, так и отрицательных, не является идейно-политической силой. Его многочисленные адепты в XVIII, XIX и XX столетиях принимали участие в практической политике только в союзе с другими группами. Либерализм не мог поставить задачу, не мог разделить людей на друзей и врагов, поэтому не был политической идеей, оставаясь лишь идеей о политике. Для выражения своего либерализма его последователям приходилось поддерживать или отвергать другие идеи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: