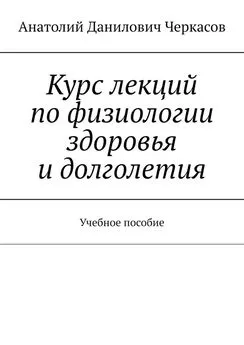Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]
- Название:Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2018
- ISBN:978-5-386-10054-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] краткое содержание
Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но в гуманитарной сфере – там, где располагаемся мы, мыслящие и создающие, сообщенные друг другу и самосознающие, – сам исследователь принадлежит исследуемому, он не наблюдатель-теоретик, а соучастник, его критика и исследования не просто наводят чистоту, а изменяют исследуемое. Критическая теория познания, говорит Гегель, входит в само познание: так, путем критики и переосмысления априорных допущений теории развивается наука; так, путем радикальной философской критики эпохальной системы категорий мысли, архитектоники ума как целого («дух времени» – называет это Гегель [189]), путем осознания, критики и трансформации символических форм культуры (науки, искусства, исторического, социально-политического, религиозного… самосознания) развивается человек в своем историческом мире. Философская критика, то есть радикальная саморефлексия (самосознание) – не внешний само отчет мысли, а ее внутреннее самопреобразование.
Человек, иначе говоря, не располагается умом рядом с миром, перед его картиной, не витает над миром, его жизненный мир внутренне историчен благодаря тому, что опыт познания, лучше сказать, опыт мыслящего, понимающего бытия в мире становится опытом его самопознания, растущего самосознания. Впрочем, «лучше сказать» сказано ошибочно. Для Гегеля именно познание, методическое картезианское познание мира и, соответственно, техническое овладение методическим устройством мира составляет существо «духа». «Человек, – говорит „дух“ Гегеля, – стремится вообще к тому, чтобы познать мир, завладеть им и подчинить его себе, и для этой цели он должен как бы разрушить, т. е. идеализировать реальность мира» [190]. В технике экспериментального – инструментального – познания субъект познания (ego cogitans) вводит троянского коня техники в опыт природы и за ниточку метода (логическая связь идей) извлекает из мира всё, что извлекается как техническое: методически устроенное (причинно-следственная связь вещей). Гегель думает, что за эту ниточку может быть распутан весь клубок бытия, так что в перспективе методического умозрения оно просто совпадает с методическим знанием-владением. Дескать, субъект (мы помним: ничтожный тростник, теряющийся во Вселенной) методически овладевает всей техникой природы (ядерными силами, генетикой), но не только: в его руках оказываются механизмы антропогенеза, этногенеза, социогенеза, медиатехнологии, политтехнологии и т. д. Словом, он готов занять место собственной субъектности бытия. Вот что видит своим умозрением Гегель. Так что все апологеты всемогущества научно-технического мира – гегельянцы.
Однако за этим миром научно-технического прогресса, по сей день растущим и охватывающим всю планету, остается и всё больше дает о себя знать то, что Кант назвал «вещью в себе»: мир, ускользающий от методического познания и технического овладения, вытесняемый из поля зрения ума на периферию, но ведущий иное существование и говорящий иным языком.
Поскольку научно-технический – картезиански-гегелевский – разум отождествляется с разумом вообще, и в духе этого рацио происходит тотальная рационализация мира, речь другого, там, где она слышится, кажется иррациональной . Это речь «мировой воли», «мифа», «музыки», «бессознательного», «классовых интересов» или «жизненных инстинктов».
В заключение зададим несколько вопросов Гегелю.
Вы говорите о двух с половиной тысячах лет кропотливой работы мирового духа (а он, если я правильно понял, есть дух человека, не просто работающего в мире, но именно перерабатывающего внешний мир в свой, для которого он сам будет «нутром»). Откуда тут взялось время? Говорят ли эти 2500 лет что-то философски значимое или это случайность? Иначе говоря, имеет ли время, затрачиваемое духом, чтобы прийти в себя из сна природы, – логическое значение.
Второе. Развитие духа происходит диалектично, посредством отрицания и переосмысления первоначала, в результате чего возникает новое начало (начало нового уморасположения). «Начало нового духа, – говорите Вы, – есть продукт далеко простирающегося переворота многообразных форм образования, оно достигается чрезвычайно извилистым путем и ценой столь же многократного напряжения и усилия. Это начало есть целое, которое возвратилось в себя из временной последовательности, как и из своего пространственного протяжения, оно есть образовавшееся простое понятие этого целого» [191]. Что такое эти «формы образованности» и «извилистые пути», затрачиваемые «времена» и занимаемые «пространства»? Перед нами историческая эмпирия или нечто опять-таки имеющее логическое значение?
То, как дух шествовал к себе, мы наглядно видим в формах нашего образования. «…В педагогических успехах мы узнаём набросанную как бы в сжатом очерке историю образованности всего мира <���…>.
С одной стороны, надо выдержать длину (?) этого пути, ибо каждый момент необходим; – с другой стороны, на каждом из них надо задержаться , ибо каждый момент сам есть некоторая индивидуальная, цельная форма и рассматривается лишь постольку абсолютно, поскольку его определенность рассматривается как целое или конкретное, т. е. поскольку целое рассматривается в своеобразии этого определения» [192].
Тут снова возникает вопрос о «длине пути» и «долготе времени», но я обращу внимание еще на одно. На каждом «моменте» надо задержаться, войти в его внутреннюю жизнь, потому что каждый момент не только нечто, что следует пройти, но во что следует войти, поскольку каждый раз это всё целое в свое образном определении. Вопрос, насколько задержаться и как глубоко войти? Ведь если входить в детали, – а все они необходимы, ибо это детали целого, – то перед нами «целое» самого всеобщего духа в особом определении. Возможно, если войти в детали, это определение окажется не преходящим, а равно значащим с другими, и вместо прогрессивного развертывания истины мы получим две истины (или даже больше)?
Если так, мы возвращаемся к образу эпохальных культур, оставленных у неокантианцев, только уже не станем ни витать над ними, как теоретики-культурологи, ни связывать их в цепочку прогрессивного развития в науко-технический мир. При таких предпосылках и предостережениях наше уморасположение окажется где-то между культурами. Правда, культуры понимаются при этом не в смысле этнической или семиотической культурологии, а как своеобразные определения целостного духа в его общезначимой полноте.
Как же это возможно?
Примечания
1
М. Хайдеггер использует здесь значения слов, производных от der Stimme (голос): stimmen – быть в согласии, соответствовать, die Stimmung – настроение, расположение духа. По его примеру можно в русском «настроении» расслышать и «строй», и «настройку» (согласие) инструмента, и «настройку на» внимание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]](/books/1076530/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs.webp)