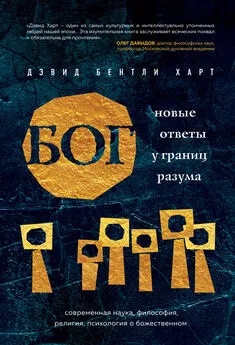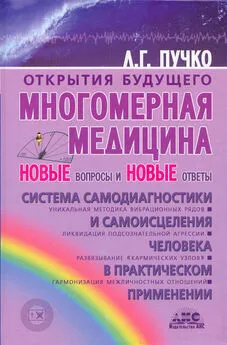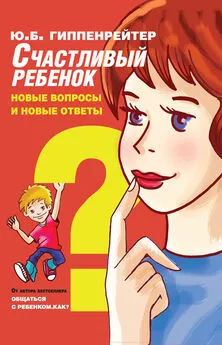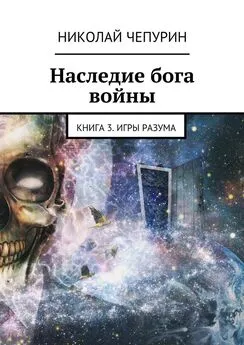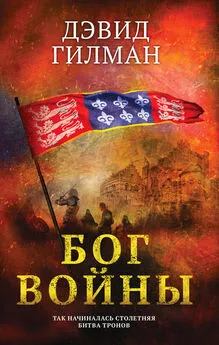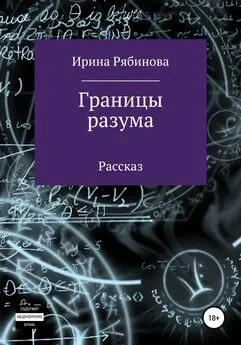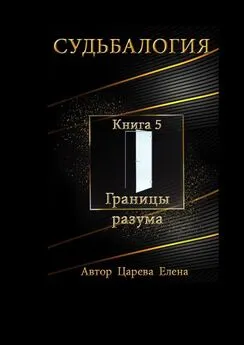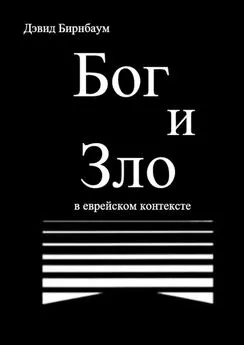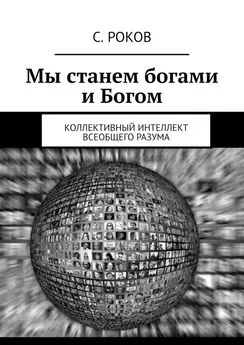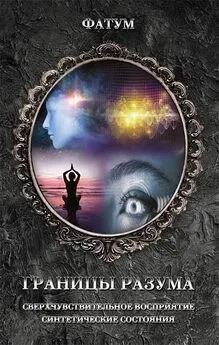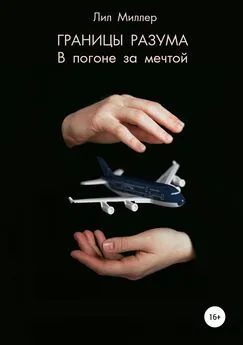Дэвид Харт - Бог. Новые ответы у границ разума
- Название:Бог. Новые ответы у границ разума
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-099880-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Харт - Бог. Новые ответы у границ разума краткое содержание
Бог. Новые ответы у границ разума - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Опять же, я знаю, что многие атеисты находят утверждения такого рода сильно раздражающими. Должен признать, что это не особенно меня беспокоит, но и должен заметить, что я не пытаюсь начать спорить о том, во что на самом деле верят или должны верить; моя цель состоит лишь в том, чтобы прояснить, чем классическая концепция Бога отличается от довольно глупых антропоморфизмов, которые разрастаются в современных дебатах по этому вопросу как среди атеистов, так и среди некоторых типов религиозно верующих людей. А для этого, я думаю, стоит отметить, насколько глубока концептуальная проблема морального феномена, такого как, скажем, альтруизм, для материалистической метафизики. Трудность не генетическая, строго говоря: я предполагаю, что если ограничиться механистическим пониманием материальной каузальности, то можно, конечно, показать, что альтруизм имеет огромные эволюционные преимущества для определенных групп организмов, и поэтому можно сказать, что он развивался вместе с видом. Скорее, реальная проблема носит структурный характер: вопрос, который стоит задавать об альтруизме, не в том, имеет ли он измеримые естественные последствия, которые могут помочь выживать определенным группам населения (наверняка имеет), а в том, может ли он сам по себе точно соответствовать чисто материалистическому нарративу о реальности или же он неизбежно оставляет открытым путь за пределы чисто материального? Определенно, типичные попытки натуралиста объяснять альтруизм полностью эволюционными терминами порождают столько же вопросов, на сколько из них эти попытки якобы отвечают. Одна из причин этого та, что многое в эволюционной биологии, в отличие от физики или химии, принимает форму исторической реконструкции, а не контролируемого экспериментального режима и поэтому подразумевает в гораздо большей степени догадки о прошлых контингентных ситуациях, нежели любая другая из современных наук, и использует теоретический язык, внося в него немалую долю плохо определенных понятий [таких как «пригодность» («fitness»)]. В этом нет ничего предосудительного; не все науки должны работать одинаково. Некогда разумная надежда на то, что более глубокое понимание генетики сделает эволюционную теорию столь же точной, как и физику, раскрывая секреты своего рода основной биологической частицы, аналогичной атому, кажется, была разбита достижениями молекулярной и клеточной биологии, которые, как правило, усложняют, а не упрощают нашу концепцию генов. Но биология никогда не зависела от такого рода логики, и поэтому ее провал с выявлением собственной элементарной частицы едва ли заслуживает сожаления. Тем не менее, один большой недостаток реконструктивной природы большей части эволюционной науки заключается в том, что идеология и псевдонаука могут несколько легче внедриться в эволюционную теорию, чем в другие научные области.
Действительно, очень жаль, ведь существует несколько научных загадок, таинственно прекрасных в большей степени, нежели те, которые касаются истоков и эволюции органической жизни. Но также есть несколько сфер приложения научных усилий, которые легче искажаются в общественном воображении метафизическими пристрастиями, замаскированными под научные принципы (такими, как сохранение узко-механистического взгляда на природу, почти наверняка полностью неадекватного в качестве модели того, как функционируют организмы и среды), и некоторыми ангажированными теоретическими приверженностями (такими как чисто догматическое упорство в том, что практически все биологические явления следует понимать в соответствии с жестким адаптационизмом). Когда конкретный научный метод становится метафизикой и когда эта метафизика маскируется под эмпирическую строгость, становится чрезвычайно трудно определить реальные демаркации между подлинными открытиями и произвольными интерпретациями. Слишком часто эволюционные термины используются не для того, чтобы определить, что на самом деле известно или не известно о структуре жизни, а исключительно для продвижения материалистической мифологии. Рассмотрим, например, глупейшую метафору «эгоистичного гена» – глупейшую просто потому, что метафора полезна только в том случае, когда она разъясняет свою тему. А эта метафора делает как раз противоположное: оно фактически затемняет всякую ясную картину генетической детерминации организмов и в конечном счете создает альтернативную картину, которая никак не может быть точной. В результате это скорее приглашение к заблуждению, чем к чему-то еще. Честно говоря, разговоры об эгоистичных генах даже не квалифицируются как форма научного языка, хотя, как считается, в них все же есть некий довольно призрачный след научного содержания, чтобы вызывать какие-то сугубо научные дебаты. Идея, что гены являются первичными единицами естественного отбора, мягко говоря, спорна среди эволюционных биологов, а представление о том, что ДНК следует рассматривать как некий детерминированный цифровой код, который создает для себя транспортные средства – «машины выживания», используя популярную фразу, – кажется, неизбежно вызывает все большее разочарование. По-видимому, уже не существует совершенно фиксированной концепции того, что такое ген, и эпигенетическая теория и системная биология теперь в большой степени представляют нам не однолинейную картину гена как своего рода мастер-программу, которая неумолимо разворачивается в трехмерную структуру организма, но вместо этого выдают полилинейную картину генетического материала, как что-то, функции чего многообразно определяются контекстом протеинов в организме и сложными клеточными процессами. Это, вероятно, устаревшие сведения. Тот, кто имел приличного учителя биологии в школе, знает, что на самом деле не существует такого понятия, как «ген для» чего-либо как такового, так же как своего рода плюрипотенциальная генетическая запись эволюционного прошлого, которая в настоящее время в значительной степени подчинена протеинам, закодированным геномом, и которая может быть использована по-разному клетками, организмами, видами и средами. [79]
Но я жалуюсь не на это. В любом случае картина будет продолжать меняться. Научные парадигмы по своей сути временны и необязательны. Но на самом деле не имеет значения, каким окажется окончательный статус «генетоцентрической» эволюционной теории, потому что метафора эгоистичных генов не вписывается ни в какой мыслимый научный контекст. Проблема заключается в применении образов свободы воли – скрытых мотивов, целей и замыслов, – к тому, что в конце концов является только биохимическими составляющими неизмеримо более сложных органических структур (многие из которых действительно обладают той реальной интенциональ-ностью, которой нет у генов). Результат живописный, мифологический, но, конечно, не «научный» в каком-либо значимом смысле. Возьмем, например, знаменитый (или пресловутый) отрывок, в котором Ричард Докинз наиболее запоминающимся образом описывает, что делают гены: «Теперь они роятся в огромных колониях, – пишет он, – в безопасности внутри гигантских неуклюжих роботов, изолированные от внешнего мира, общаясь с ним извилистыми косвенными путями, манипулируя им с помощью дистанционного управления. Они находятся в вас и во мне; они создали нас, тело и разум; и их сохранение является крайним обоснованием нашего существования». Сравните-ка это со сделанной Денисом Ноблем элегантной инверсией центральных понятий этого фрагмента: «Теперь они заперты в огромных колониях, заперты внутри высокоинтеллектуальных существ, сформированных внешним миром, общаясь с ним посредством сложных процессов, через которые, слепо, как по волшебству, возникает функция. Они находятся в вас и во мне; мы – система, которая позволяет читать их код; и их сохранение полностью зависит от той радости, которую мы испытываем при воспроизведении самих себя. Мы – крайнее обоснование их существования». Итак, в чем же разница между этими двумя подходами к генетической теории? Докинз любезно заявил, что пересмотр Ноблом его текста столь же правдоподобен, что и оригинал, и что все это действительно в конце концов вопрос точки зрения (а ведь это – значительная уступка, поскольку это означает, что исходный текст делает утверждения, которые не являются эмпирическими, а всего лишь, в лучшем случае, живописными). На самом деле, однако, эти два отрывка вовсе не правдоподобны. Как ни красочен язык Нобла, в значительной степени он буквально верен. Язык Докинза, напротив, насквозь метафоричен: неуклюжие роботы, манипуляции, дистанционное управление, «они создали нас» – все это достаточно привлекательно и даже немного причудливо (в стиле научной фантастики 1950-х годов), но более или менее бессмысленно. Риторически говоря, это прекрасный пример «патетического заблуждения», наивной привычки приписывать человеческие мотивы и намерения нечеловеческим объектам. Этот язык, конечно, не описывает ничего реального или даже аналогичного реальному. Особенно причудливы эти смешные роботы, поскольку они суть именно то, чем мы, люди – в своих сознательных интенциях – совершенно определенно не являемся. Однако этот образ показывает, насколько механистична метафора «эгоистичного гена». По крайней мере, сложно не заметить, что благородный язык был смутно (весьма смутно) аристотелевским, со ссылкой на некую высшую каузальность, нисходящую от сложных систем к более примитивным элементам, в то время как Докинз описывает, по существу, картезианскую модель организмов: огромные автоматы, управляемые каким-то первичным фактором глубоко внутри (в данном случае не душой или духом, или гомункулом, а целой ратью своекорыстных бесов, незаметно угнездившихся в органических клетках). [80]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: