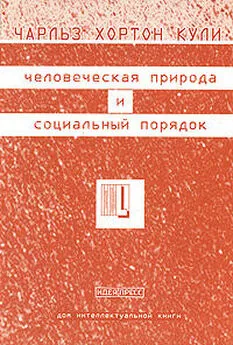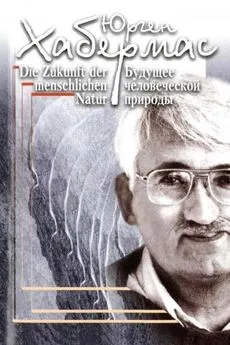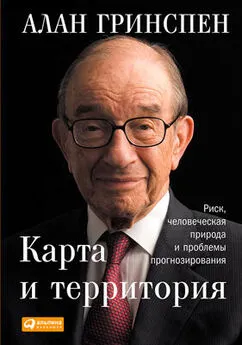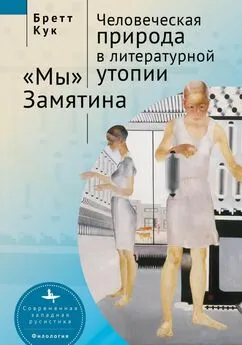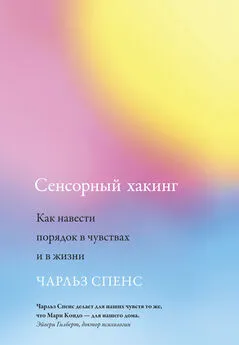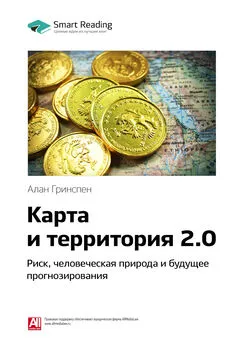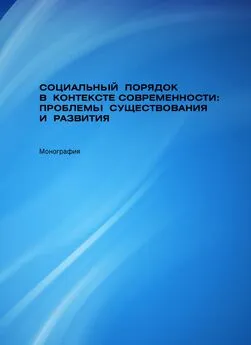Чарльз Кули - Человеческая природа и социальный порядок
- Название:Человеческая природа и социальный порядок
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-7333-0016-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Чарльз Кули - Человеческая природа и социальный порядок краткое содержание
Впервые на русском языке книга основоположника символического интеракционизма, давно ставшая классикой социологии. Это единственное, пожалуй, за последние 100 лет целостное исследование становления человеческого я.
http://fb2.traumlibrary.net
Человеческая природа и социальный порядок - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хотя изменения к лучшему в нашем образе жизни, возможно, и не изменяют наследственность, из этого никоим образом не следует, что они менее значимы по сравнению с евгеникой. На самом деле прогресс, как его обычно понимают, не требует каких-либо изменений наследственности; прогресс — это развитие науки, искусств и социальных институтов, происходящее при незначительном или вовсе без изменения наследственного материала. Распространение образования, отмена рабства, рост числа железных дорог, телеграфных и телефонных линий, автомобилей, формирование национальных государств и запрещение войны — все это явления социального порядка, и они могут продолжаться независимо от улучшения наследственности. Тем не менее такое улучшение могло бы ускорить прогресс, увеличив число талантливых лидеров и подняв общий уровень наших способностей. Ухудшение же качества наследственности, угрожающее нам, по мнению многих, препятствует прогрессу и может со временем вообще его остановить. Социальное совершенствование и евгеника должны идти вперед рука об руку.
С началом нашей индивидуальной жизни оба главных элемента питающей ее истории — наследственный и социальный — сливаются в новую целостность и перестают быть отдельными силами. Ничего из того, что индивид представляет собой или делает, нельзя приписать только одному из этих элементов, так как все это основывается на привычках и опыте, в которых оба они неразрывно связаны. Наследственность и окружающая среда применительно к реальной жизни человека, — это, по сути, абстракции; реален же целостный органический процесс, не разложимый на составные части. То, как практически проявляет себя наследственность в данное время, зависит от самого этого процесса, который реализует одни потенциальные возможности и подавляет другие. Аналогичным образом воздействие среды зависит от избирательной и ассимилирующей активности растущего организма. Если вы хотите понять, как это происходит, необходимо отследить историю его жизни вплоть до зачатия и рождения самого индивида; сверх того можно изучить еще зародышевую плазму и социальное наследие, породившие эту жизнь. Это даст нам общее представление о родословной и первичном окружении человека — своего рода первые страницы его биографии. Но жизнь конкретного Вильяма Сайкса вы должны изучать непосредственно, и знание о его наследственности и внешнем окружении могут послужить лишь вспомогательным средством [1] Старым, но постоянно воспроизводимым заблуждением является мнение, будто мы можем каким-то образом оценить вес наследственного фактора в человеческом сознании отдельно от того, что в нем социально или приобретено в жизненном опыте. Так, некоторые авторы утверждали, что тестирование на умственное развитие, проводимое в армии, позволяет измерить природные умственные способности, не зависящие от социальной среды развития, и что оно доказывает врожденную ущербность некоторых национальностей. Но так как развитие сознания представляет собой всецело социальный процесс (сравни главу III), то было бы неразумно предполагать, что результат может быть хоть в какой-то степени независим от этого процесса. В действительности же результаты упомянутого тестирования объясняются различиями в языке, семейном укладе, образовании и профессии с тем же успехом, что и ссылкой на наследственность.
.
Речь хорошо иллюстрирует неразрывный союз природно-биологического и социального наследования. Она возникает отчасти благодаря естественному строению голосовых органов и врожденному стремлению их использовать, примером чему служит бормотание слабоумных и глухонемых. Естественная тяга и восприимчивость человека к другим людям и потребность в общении с ними тоже являются фактором порождения речи. Но вся речевая артикуляция возникает только в общении, ей учатся у других; она варьируется в зависимости от окружения и в своих истоках восходит к традиции. Речь, таким образом, представляет собой социально-биологическую функцию. Точно так же дело обстоит и с нашими амбициями во всех сферах социальной активности: потребность в самоутверждении является врожденной, но реализуем ли мы ее в роли охотника, военного, рыбака, торговца, политика или ученого, зависит от того, какую возможность предоставит социальный процесс.
Вообще, это безусловная ошибка — рассматривать наследственность и социальную среду в качестве антагонистов. Они естественным образом комплементарны и не могут выполнять свои специфические функции друг без друга.
Какой из этих факторов сильнее? Какой более важен? Тот, кто задает такие глупые вопросы, доказывает лишь, что не имеет ясного представления о данном предмете. Это все равно что спрашивать: кто в семье важнее — отец или мать? Они оба бесконечно важны, поскольку оба необходимы и незаменимы; и их функции, отличаясь качественно, не поддаются сравнению по степени значимости.
Не означает ли это, что все споры об отношениях наследственности и окружающей среды бесполезны? Ни в коем случае. Дело в том, что, хотя и очевидно, что они, в общем, взаимодополняемы и взаимозависимы, мы, как правило, не знаем точно, какова доля каждого из них в данном конкретном случае, а потому неизбежны сомнения: что нужно совершенствовать — социальные условия или наследственный материал? Это только в общетеоретическом смысле вопрос о том, что из них важнее, кажется глупым. В отношении же конкретной проблемы он может быть вполне осмысленным — так, он совершенно уместен при изучении проблем с наследственностью в конкретной семье, когда нужно выяснить, по линии кого из родителей они передались. И хотя непосредственная количественная оценка этих факторов — по крайней мере там, где речь идет о сознании, — невозможна, так как они нераздельны, все же могут существовать косвенные методы, проливающие свет на этот вопрос.
Многие расовые вопросы того же рода. Существуют, например, огромные различия между японцами и американцами. Некоторые из них — такие, как язык, религия, моральные нормы, — носят явный социальный характер и могут меняться под влиянием образования. Другие же — пропорции тела, цвет и разрез глаз — передаются по наследству и не подвластны образованию; однако сами по себе они не имеют большого значения. Но нет ли еще и таких тонких, неуловимых различий в темпераменте, умственных способностях или эмоциональном складе, которые одновременно и значимы, и врожденны и которые не дают нациям жить в мире друг с другом или ставят одну из них выше других? Мы не знаем ответа на этот вопрос, хотя это самое важное, что мы должны знать. То же самое относится и к проблеме чернокожих. В какой мере их нынешнее подчиненное положение поправимо средствами образования и социальных реформ, а в какой — это вопрос зародышевой плазмы, изменяемой лишь с помощью селекции? Вся проблема взаимоотношений черных и белых зависит от решения этого вопроса, на который мы не можем ответить с уверенностью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: