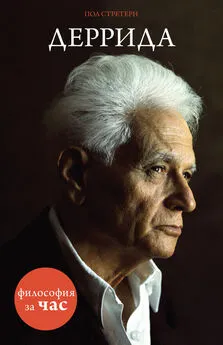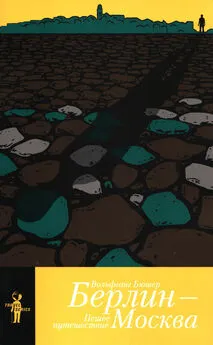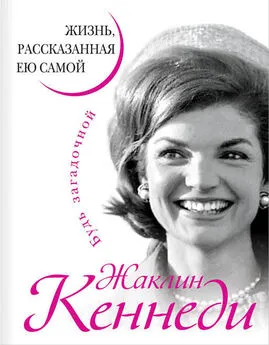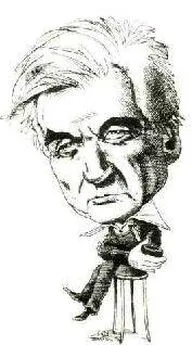Жак Деррида - Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия
- Название:Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РИК «Культура»
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:5-8334-0026-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Деррида - Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия краткое содержание
Книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» посвящена видному философу современной Франции, который побывал в нашей стране в феврале-марте 1990 г. Итогом этой поездки стали его заметки «Back from Moscow, in the USSR», в которых анализируется жанровое своеобразие серии «возвращений из СССР», написанных в 20-30-х гг. В. Беньямином, А. Жидом и Р. Этьемблем. В книгу также вошли статья московского философа М. Рыклина «Back in Moscow, sans the USSR» и беседа «Философия и литература», в которой, кроме самого Ж. Деррида, принимают участие философы Н. Автономова, В. Подорога и М. Рыклин. В приложении приводятся краткие биографические сведения о Ж. Деррида и библиография его основных произведений. Для читателей, интересующихся современной философией и культурой.
http://fb2.traumlibrary.net
Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Back from» и «back in» — тонкая граница между ними едва ли преодолима, не стоит соблазняться ее прозрачностью, она-то и составляет главное препятствие. Все же благодаря предпринятой Жаком Деррида деконструкции его путешествия в Москву, благодаря водяным знакам этого путешествия, этого возвращения «Back from Moscow, in the USSR», для меня, для нас здесь сошлись две редкие удачи: возможность работать с теми же текстами, с которыми работает и один из крупнейших современных философов; работать с текстами, относящимися к городу, в котором я живу уже двадцать семь лет, в который вписан, как в поле собственных априорных возможностей.
Итак, я пишу из конца путешествия о его начале, пишу здесь, в Москве, переставшей быть сначала «надеждой мира» (как пелось в 30-е гг.), потом столицей СССР, пишу на еще дымящихся развалинах этого последнего события, в ауре его непостижимости — так и тянет вновь, вслед за Вальтером Беньямином, задействовать привилегию «текущего момента», когда «любая эмпирия уже есть теория», но по причинам, которые легко уяснить из дальнейшего, я этого не сделаю, уже [2]не сделаю.
Не воспользуюсь я и еще одним преимуществом, которое Беньямин имплицитно дает внутреннему наблюдателю в том отрывке из письма к М. Буберу, где речь заходит о «недостаточности „данных“ из духовной сферы»: «тут нужны факты из области экономики, которые даже в России в достаточной мере поняты лишь немногими». Это «даже в России» молчаливо предполагает мое эпистемологическое преимущество в том, что касается «самой вещи», Москвы, России; глубина знания увязывается здесь с отмеченностью места, находящиеся «здесь» должны знать лучше, чем находящиеся «там». В еще более радикальной форме тот же ход содержится в письме к Юле Радт: «Я не могу все это оценить. Главное, местная ситуация допускает и даже требует занять позицию изнутри…, извне ее можно только наблюдать…, я не могу быть вовлеченным в нее до конца» 1 .
Вообще «феноменологический мотив» включает в себя приоритет внутреннего наблюдателя перед внешним, оправданный его близостью к «самой вещи», от лица которой он как бы уполномочен — здесь задета важная в «Московском дневнике» проблема «мандата» — говорить. Из-за подозрительности нынешней Москвы в качестве «самой вещи» я вынужден пожертвовать и этим преимуществом, пожертвовать ради строгой параллельности движения; каждой сильной стороне при таком методе обязательно — и почти автоматически — соответствует слабая, и наоборот. Привилегия игры перед случайностью победы и поражения кажется слишком очевидной…
Я также не участвовал в дискуссии в Ирвайне, которую предварял текст Ж. Деррида «Back from Moscow, in the USSR»: думаю, что в ней было сказано что-то существенное о «политэкономии бумаги» в эпоху перестройки; о «еврейском вопросе» во множественном числе; о деструкции деструктивного идеологического языка и о многом другом. Я осмеливаюсь писать не только в незнании этого, но и этим незнанием; оно активно и в момент письма уже ничего не обещает.
Текст Деррида выделяет «возвращения из СССР» с 1917 г. по перестроечное время в особый жанр: жанр невозможных путешествий к самим себе, дистанцированный от паломничеств в святые места и т. д. Но в нем есть целый ряд более прозаических «возвращений» типа: «Я к этому еще вернусь»; «Что, вероятно, я и сделаю позднее»; «Возвратиться к этому в ходе дискуссии». Ирония «Back from Moscow, in the USSR» — в том, что этот текст о «возвращениях» сам не возвращается, в нем как бы вовсе отсутствует кнопка «rewind»; в качестве законченного наброска он приучает нас к невозможности обратного хода, возврата не только своим содержанием (возвращаются всегда не оттуда, куда направлялись), но и своей структурой, запрограммированной на поступательное движение. В таком тексте обещание возвратиться, отыграть назад становится частью особой «стратегии невозвращения». Он вращается своей невозвращаемостью .
Тем более невозвращаемым является мое собственное возвращение в Москву, в место, откуда (но некуда) возвращаются, с трудом приходя в себя, Андре Жид, Рене Этьембль, Лион Фейхтвангер, Ромен Роллан, Луи Арагон и сколько еще других, узревших свой земной Грааль. В силу фундаментальной асимметрии, поколебленной, но далеко не устраненной, я не могу «обменять» их возвращение на свой отъезд и написать что-то в жанре «back from», «retour de l'URSS».
(Во Франции я, кстати, заинтересовался более чем двухвековой традицией русских «возвращений из Парижа» — от княгини Дашковой до Эренбурга через Карамзина, Фонвизина, Батюшкова, Боткина, Греча, Салтыкова-Щедрина. С анализом одного из ключевых текстов, «Зимних заметок о летних впечатлениях» Федора Михайловича Достоевского, я дебютировал в семинаре Жака Деррида на бульваре Распай.)
Возвратившемуся в Москву остается породить какие-то собственные края и двигаться по ним, рядом и параллельно с краями других записок, заметок, иногда неуклюже заступая за них, поскальзываясь, как скользил на улицах Москвы Вальтер Беньямин, пока Ася Лацис не подарила ему галоши; вновь попадая на свои узкие края в сознании того, что «возвращение из…» для тебя практически исключено, fort и da необратимо поменялись местами.
Я начинаю скользить с самого зимнего из путешествий, декабрьско-январского «Московского дневника» (в дальнейшем «МД») Вальтера Беньямина.
1. Путешествие революционера-коллекционера
«Не ищи в нем зимних масел рая»
О. Мандельштам«В отношении ко времени русские дольше всего останутся азиатами», — читаем в эссе «Москва», опубликованном по свежим следам поездки в СССР. В Москве, записано в «Дневнике», никто никуда не спешит, и даже такая банальность, как максима «Время — деньги», принимает в этом городе форму лозунга и скрепляется авторитетом и подписью самого Ленина. Но эта замедленная, неторопливая жизнь парадоксальным (Беньямин иногда говорит еще: диалектическим) образом производит на другом полюсе перманентную мобилизацию. Мобилизацию, крайне утомляющую протагонистов «адского треугольника» и других участников «МД». Они исключительно часто принимают горизонтальное положение, их как бы сваливает усталость.
Ася Лацис больна, и с момента приезда Беньямина «ее выздоровление почти не продвинулось» 2 : «Когда мы приходим, обычно она лежит в постели» 3 ; «Ася плохо себя почувствовала и быстро устала» 4 ; Ася «была очень усталой и сразу же легла в постель» 5 ; «Теперь она лежала на кровати в моей комнате» 6 и т. д. Картина не меняется как в санатории, так и после выписки из него. Что напоминает ритм этой усталости?
«Из большого окна со двора падал бледный нежный свет, придавая шелковистый оттенок платью женщины, устало полулежавшей в высоком кресле. К ее груди прильнул младенец. Около нее играли дети, явно крестьянские ребята, но она как будто была не из их среды… Женщина в кресле замерла, как неживая, и смотрела не на младенца у груди, а куда-то вверх»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: