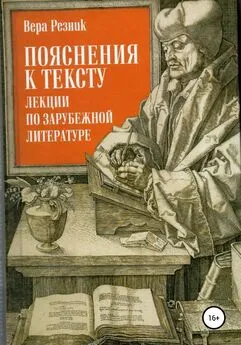Григорий Амелин - Лекции по философии литературы
- Название:Лекции по философии литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки славянской культуры
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0083-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Амелин - Лекции по философии литературы краткое содержание
Этот курс был прочитан на философском факультете РГГУ в 2003–2004 годах. Но «Лекции по философии литературы» — не строгий систематический курс, а вольные опыты чтения русской классики — Пушкина, Толстого, Достоевского с точки зрения неклассической философии, и одновременно — попытка рассмотрения новейшей литературы XX века (от Анненского до Набокова) в рамках единства Золотого и Серебряного веков.
Книга чистосердечно для всех, кто интересуется русской литературой.
Лекции по философии литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В этом необратимом поступке безусловное и непосредственное «да» миру, согласие с ним, у-миро-творение (если записать по-хайдеггеровски).
Мотовилиха — реальный топоним. Действительно, есть место, которое называется «Мотовилиха». Поэт ничего не придумывает. В декабре 1905 года Пресня оказалась центром восстания, где после девятидневного сражения на баррикадах сопротивление было жестоко подавлено. На Урале московское восстание было поддержано прежде всего под Пермью, в местечке под названием Мотовилиха. Его и видит Женя. Следовательно, Мотовилиха — один из революционных символов. То есть Пастернак рассказывает не какую-то реальную историю, а конструирует некое пространство, заполненное символами — Девочка, Революция, Имя и т. д.
Но для Пастернака Мотовилиха — это не имя места, а место самого имени, некая исходная топологическая структура рождения имени. Русско-французский каламбур позволяет открыть в имени Мотовилиха что-то, к непосредственной номинации не относящееся, а именно — структуру имени как такового, а не именем него оно является. «Бормотание» — это первородный гул, шум, из которого рождается слово, и одновременно — само слово, mot Вернее, это уже не шум, но еще и не язык. Любопытно, как Генрих Нейгауз в своей книге «Об искусстве фортепианной игры» советует обучаться игре, ставить звук. Он пишет: «„Еще не звук“ и „уже не звук“ — вот что важно исследовать и испытать тому, кто занимается фортепианной игрой» [8] Генрих Ненгауз. Об искусстве фортепианной игры. М., 1999, с. 68.
. Пианист (как и поэт, чего греха таить) имеет дело не со звуком и отсутствием звука, а вот с тем, что Нейгауз обозначает как зазор между «еще не звук» и «уже не звук». Парадоксально, правда? У Андрея Белого: «…Я — над Арбатом пустеющим, свесясь с балкона, слежу за прохожими; крыши уже остывают; а я ощущаю позыв: бормотать; вот к порогу балкона стол вынесен; на нем свеча и бумага; и я — бормочу: над Арбатом, с балкончика; после — записываю набормотанное. Так — всю ночь…» [9] Андрей Белый. Начало века. М., 4990, с. 139.
Поэт висит над Арбатом — в промежутке, в зазоре между тем, что еще не родилось, и тем что уже умерло, легши на бумагу. Из Пастернака:
Стоит и за сердце хватает бор мот
Дворов, предместий, мо крой мостовой ,
Калиток, капель… Чудный гул без формы,
Как об мо рок и разговор с собой.
В раскатах, затихающих к вокзалам… (Г, 341)
В отличие от Белого, здесь не поэт бормочет, а само пространство, разговаривающее само с собой.
Куполом нависает чудный гул, уже чреватый словом. Он затихает на вокзале, потому что вокзал — и есть родившееся слово. Его поэтическая архитектура — форма этого гула как артикулированной речи.
Напомню вам (в связи с этим «еще не / уже не») парадоксальное определение сознания, данное Мамардашвили и Пятигорским: «Сознание вообще можно было бы ввести как динамическое условие перевода каких-то структур, явлений, событий, не относящихся к сознанию, в план действия интеллектуальных структур, также не относящихся к сознанию. По сути дела, область интеллектуальных структур и лингвистических оппозиций можно определить как область механических отработок, „сбросов“ сознания, куда сознание привело человека и где оно его оставило или где он из него вышел» [10] М. К. Мамардашвнли, А. М. Пятигорский. Символ и сознание. М., 1997, с. 39.
.
Важно, что само пастернаковское называние — зов и вызывание непонятного, алкание безымянного («как зовут непонятное…»). Этим зовом манифестируется уход в собственное первоначало, то есть в молчание. Молчание, чреватое словом, mot, у Цветаевой: «О мои словесные молчаливые пиршества — одна — на улице, идя за молоком!» [11] Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки в двух томах. 1913–1919. М., 2000, т. I, с. 437.
Пир в одиночку. Млечный путь. Silentium.
Поэт — млекопитающее молчания.
Лекция iv
Литература как опыт невозможного
Михаила Леоновича Гаспарова как-то спросили, любит ли он кино? «Нет, — отвечал он, — потому что я не могу вернуться к тому, что только что посмотрел (и вообще, я плохо вижу, и начинаю отличать мужа от любовника, когда это уже совершенно не релевантно)». Но у нас-то все релевантно, мы можем вернуться к тому, что только что обсуждали. Прерывайте меня, останавливайте, я буду принимать это на свой счет. Если вы чего-то не понимаете — это не ваша вина, а моя неспособность донести до вас, объяснить. Но не забывайте, что в отличие от филологии, которая оперирует определенными, известными величинами (и панически боится безымянных высот), философия оперирует величинами принципиально неизвестными. Здесь господствует принцип: в нашем мышлении существуют исходные вещи, посредством которых мы понимаем что-то другое, а сами они остаются неясными. То, что обеспечивает ясность чего-то другого, само неясно, не отвечает критериям того, что ясно посредством него.
И, как говорил Флоренский, чем ближе к Богу, тем больше противоречие. В конце не будет тихой речки, где с полным правом можно отдохнуть. Война, вечный бой с собою — вот наше беспокойное благосостояние. В одной сказке Ж. Санд воробей спрашивает полузамерзшего волка в Литве, зачем он живет в таком скверном климате? «Свобода, — отвечает волк, — заставляет забыть климат». Нам тоже необходимо такое забвенье. Мамардашвили так определял правду: «Правда — это невдохновляющая меня идея». Для философа (как и для настоящего художника) нет правды в последней инстанции, нет почвы, на которой надо стоять, нет идеи, которую надо отстаивать. Как говорил один кучер у Тургенева: «Хтошь е знает — версты туточка не меряные». Если версты меряны, а правда вдохновляет, ты — идеолог, проповедник, учитель, кто угодно, только не философ. Последний во власти свободного полета, опыта сознания, «безыдейного ржания». Пятигорскому принадлежит такой парадокс: «Если тебе скажут: слушай, как ты верно сказал! Это первый признак того, что ты неверно подумал». Философ — не артист, чтобы быть убедительным и трогать души. Мысль там, где живое противоречие, напряжение, которое не может быть по душе.
Но я опять про попа и его любимую собаку… Литература есть опыт невозможного. Соломон Михоэлс рассказывал, что в детстве его очень занимала молния. Ему казалось, что молния — это трещина в небе, в которой можно увидеть Бога. Сквозь раздвинутую твердь каким-то немыслимым взглядом можно узреть Творца. Я думаю, что всякий истинный поэтический образ — такая молния, мысль-молния.
Если искусство, начиная с Аристотеля, есть возможность, то каким образом она становится действительностью? Действительностью, которая, по мысли Пруста, куда менее доступна литератору, чем область возможного. Ведь возможность сама по себе, казалось бы, не знает бытия. Конечно, возможное приходит в мир с человеком, но значит ли это, что оно субъективно? Скажем так: оно не является частью ни нашего мышления, ни нереализованного мира. Возможное — конкретное свойство существующей вещи, не реализуемое на уровне субъективности и доксы. Разумеется, возможное состояние — еще не есть существующее, но именно возможное состояние некоторого существования поддерживает своим бытием возможность или невозможность своего будущего состояния. Возможное не совпадает с мышлением о возможном. И наше мышление не может включать возможное в качестве своего содержания. Возможное есть выбор в бытии, а бытие является своей собственной возможностью. Возможное — всегда отсылка к тому, чего нет. И быть своей собственной возможностью — значит определяться той частью самого себя, которой нет, то есть определяться как ускользание от себя к чему-то иному.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: