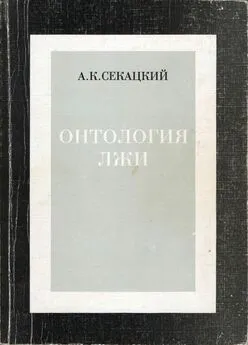Александр Секацкий - Онтология лжи
- Название:Онтология лжи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство С.-Петербургского университета
- Год:2000
- Город:С-Пб
- ISBN:5-288-02272-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Секацкий - Онтология лжи краткое содержание
В этой книге ложь трактуется как манифестация человеческой природы, как устойчивый фон работающего сознания; способность генерировать ложь и неразрушаемость ложью фигурируют в ней как родовые признаки сознания «сапиентного» типа; а путь Лжеца, фальсификатора Природы, предстает как путь человеческого бытия-к-могуществу.
Для философов.
Рецензенты: д-р филос. наук С. С. Гусев (кафедра философии АН РФ), канд. филос. наук Н. Б. Иванов (С.-Петерб, гос. ун-т)
Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета С.-Петербургского государственного университета.
Онтология лжи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Детские воспоминания (и вообще дальние воспоминания) чело века хранятся не только и не столько в его собственной памяти. Вдумаемся, почему процесс припоминания так часто бывает совместным (или даже коллективным). На припоминание приглашают: «Посидим, вспомним былое!». И вот сидят двое и припоминают друг другу: «А помнишь?», «А как мы с тобой когда-то?». Воспоминание «засчитывается» в случае взаимного обнаружения, и акт экспозиции воспоминания имеет некую самостоятельную ценность: «Да, было дело!».
Но всегда ли вспоминается то, что действительно было? Установка на строгую достоверность, конечно, возможна, но тогда получается лишь бледная и короткая экспозиция. Вовсе не ради нее собираются «повспоминать».
Совместный труд субъектов вспоминания интимно связан с процессом творческого искажения, пересоздания жизненного мира; он очень важен для производства моментов завершенности, для получения целостного биографического континуума. Неслучайно Гегель писал, что бытие в признанности имеет свою алхимию, свой микромасштаб. В данном случае мы как раз и имеем дело с одной из важнейших операций, констатирующих бытие в признанности, — с производством биографического континуума, на который затем уже опирается и достоверность автобиографии. А продуцирование биографического континуума весьма похоже на обогащение руды; процесс тот же: повышение концентрации благодаря отбраковке ненужного. Это еще не искусство, но, несомненно, фальсификация.
Мы видим взаимную заинтересованность субъектов вспоминания в «продукте» и добровольное разделение труда; оба субъекта являются друг для друга контролирующими инстанциями: по отношению к «воспоминанию о себе» человек не имеет права вето.
Но то, что нас здесь сейчас интересует,- -это возможность экспериментальной фальсификации воспоминаний. Можно ли подменить Другому его воспоминания? Речь идет не о том, чтобы, уложившись в квоту неизбежной лжи, фальсифицировать некоторые детали, а о полной подмене сюжета и подстановке другого текста в биографический континуум, с тем чтобы потом вживить его и в автобиографию, сделать внутренне достоверным для самого субъекта.
Фрейду, как мы видели, удавалось подменить воспоминания — его провокации подмен были эпифеноменом психоаналитической практики (специальных экспериментов великий душеиспытатель не ставил). Однако среди многообразных жизненных ситуаций также встречаются провокации подмен.
Достаточно известен, например, розыгрыш человека, проснувшегося наутро после пьяной вечеринки, о которой он с некоторого момента «ничего не помнит». С тихим ужасом выслушивает он воспоминания, которые ему предстоит теперь спроецировать в автобиографию. Именно этот тихий ужах: и провоцирует собеседников на розыгрыш, который обычно не планируется специально. «Да, хорош же ты был вчера...» — начинает кто-нибудь и далее следует пересказ действительных событий вперемежку с импровизациями. Здесь возможны самые невероятные подмены. Едва пришедшему в себя человеку удается вменить в вину практически все: разбитое окно, оскорбление лучшего друга, нелепое поведение с любимой девушкой.
— Не знаю, как ты будешь разговаривать с Ларисой после того, что было.
— А что такое? Разве что-то было? Ничего не помню.
— Ну, а клятва, обещания при всех... на балкон вы все время ходили. Она еще пыталась научить тебя вальс танцевать. Не помнишь, что ли?
— Нет... кажется... хотя...
Но интереснее всего, конечно, не конкретные подложные напоминания, а вынужденное присвоение их разыгрываемым человеком. Бедняга краснеет, «припоминая» очередное подложное воспоминание, «проясняя его в своем сознании», находя неожиданные подтверждающие детали (если в розыгрыше участвуют несколько человек, то эффект истинности подложного становится особенно высоким). В таких ситуациях проницаемость психологических структур для лжи ощущается с особой силой. Произвольно скомпонованные участки вводимой программы буквально вживляются внутрь субъекта и подлежат интериоризации — так проговаривание интериоризируется ребенком во внутреннюю речь, в валюту мышления (Пиаже, Выготский).
Припомнить выдуманное оказывается так же легко (или так же трудно), как и припомнить действительно имевшее место. А ведь именно такое припоминание и создает биографический континуум, являющийся важнейшим компонентом самотождественности личности. Экспериментальная подделка воспоминаний Другого кажется каким-то казусом, но попробуем задуматься о родственном феномене, относящемся к области литературы. Вспомним, например, странное чувство узнавания, испытываемое при чтении Пруста, единственная цель которого — кропотливая реставрация абсолютно уникальных личностных переживаний, воспроизведение сугубой единичности деталей, конституирующих утраченное время.
Что мы надеемся найти и находим в прустовских оттенках и неповторимостях? Конечно же, фрагменты своего собственного биографического континуума. И как раз там, где у Пруста возникает полная иллюзия возвращенного времени (на утреннем пляже Бальбека или в приступе таинственного недомогания Марселя), — там-то мы и хватаемся за сердце: попал, поймал, так оно и было! Среди воспоминаний узнаются и принимаются на веру те, что отличаются наивысшей внутренней точностью и красотой текста — как раз за это они и наделяются притяжательным местоимением первого лица.
Человек склонен считать, что если воспоминания о нем принадлежат ему самому, то они наиболее отчетливы и достоверны («естественная» презумпция). Это — конструктивная биографическая иллюзия, видоизменяющая действительность: ведь в качестве собственных воспоминаний о себе человек отбирает наиболее ясные и отчетливые из числа предложенных. Воспоминания сначала обнаруживаются, фиксируются как достоверные, а затем уже им присваивается местоимение «мои». [83] Другое дело, что для придания воспоминаниям достоверности должны учитываться архетипы или, скажем, общая архитектоника «этого сознания».
Экзотический путь прямой подмены воспоминаний в рамках косвенной подмены (искусства) оказывается всеобщим приемом. Благодаря эффектам deja vue и deja ete становится ясно, что границы самотождественности личности, как раздвижные стены японского домика, свободно перемещаемы.
Монтаж надежных противообмаиных устройств на этих участках, в сущности, никогда не требовался, поскольку здесь пролегали в основном нехоженые тропы. Но положение может измениться в будущем с развитием экспериментальной фальсификации воспоминаний: ведь программирование, осуществляемое в обход иммунных барьеров (т. е. противообмаиных устройств, установленных на проторенных путях фальсификации), через прямое вживление фрагментов программы как воспоминаний, т. е. деталей автобиографии, открывает уникальные возможности доступа к «личностному шифру» человека, к клавиатуре флейты, о которой говорил Гамлет...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: