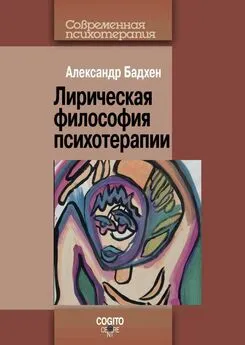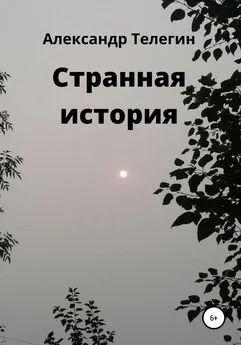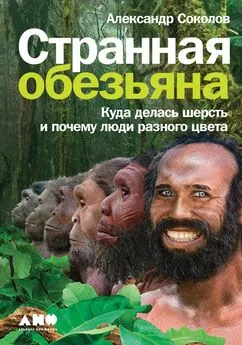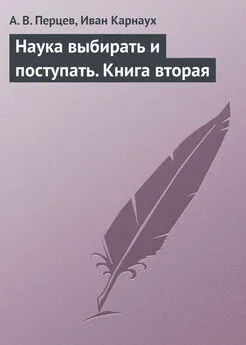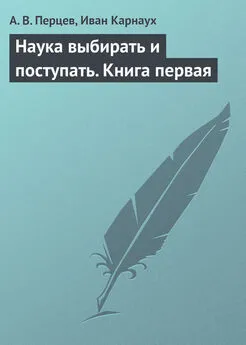Александр Перцев - Странная философия ненасилия
- Название:Странная философия ненасилия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Перцев - Странная философия ненасилия краткое содержание
Конфликтология принадлежит к числу новых дисциплин, сложившихся и оформившихся только во второй половине ХХ века. Споры о специфике этой науки, о ее принципах и методах до сих пор не закончены. Подготовка специалистов-конфликтологов в России была начата только в начале ХХI века – вплоть до последних лет программы подготовки конфликтологов отмечались в документах звездочкой, что указывало на их экспериментальный характер. Тем не менее, конфликтологов в Санкт-Петербургском университете начали готовить, и готовят по сей день именно на философском факультете.
Странная философия ненасилия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А не надо было изучать! Чего стоит воин в великой битве жизни, который вместо того, чтобы кричать свой боевой клич, изучает боевые кличи противников и думает, сомневаясь: «А правильно ли я кричу?» Боги у разных народов разные. Общего бога у человечества нет. Слово «человечество» придумали интеллектуалы, когда начали сравнивать боевые кличи. Этот кричит одно, другой кричит другое, а, в сущности, все мы люди, все мы — человеки. От таких рассуждений и до измены недалеко. Не пошел бы истинный воин с графом Толстым в разведку.
Когда граф решил опрощаться, чтобы больше не думать и не сомневаться, он пошел в народ. Но графом от этого быть вовсе не перестал, поскольку смотрел на народ по-прежнему свысока. Не хотел он учиться у народа простой, нутряной, исконной, посконной и домотканой вере. Вместо этого он стал народ исследовать — и пришел к выводу, что христианство русское, выражаясь словами его, Толстого, последователя Л. Витгенштейна, всего лишь «языковая игра». Делают люди какое-то дело и сопровождают его какими-то словесными выражениями для укрепления собственных амбиций. Так вот: не надо думать, правильно ли эти люди говорят, не надо учить их говорить однообразно и — как тебе кажется — правильно. Как говорят, так пусть и говорят. Языковая игра такая. Придет футболист к шахматистам, посмотрит на их тихие игрища с боевыми кличами «Шах!» и «Мат!», да вдруг скажет: «Неправильно кричите! Надо кричать «Гол!» Вот и получится, что футболист глупый. Не понимает он, что у каждого своя игра и свои крики.
Как сторонник великого опрощения, Л.Н.Толстой говорит, что правильность или неправильность русского народного христианства осмыслять не следует. А как граф-автодидакт , правильного образования так и не получивший, но все ж таки образованный, тут же добавляет, что оно, конечно, неправильное. В голове у народа — всяческие суеверия. Ну и пусть. Лишь бы они помогали ему в труде на лоне природы.
«И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимоверующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем не нужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейской потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, — они были необходимым условием этой жизни» [21] [21] Толстой Л.Н. Исповедь. С. 47–48.
.
Нетрудно заметить, что граф — автодидакт все время путает понятие «вера» в богословском и в своем собственном, в гордыне измысленном значении. Если говорить о вере богословской, то она может быть истинной, не расходящейся с догматами, или неистинной, именуемой суеверием. Если же говорить о вере как витальной, биологически обоснованной опоре в жизни, подкрепляющей силы в жизненной борьбе, то тут слово «суеверие» в первом смысле неуместно. Суеверно здесь то, что мешает одерживать жизненные победы. Я, положим, верил в торжество идей вудуизма, католицизма или какого-нибудь философского «изма», надеясь, что это должно и мне самому принести торжество личное, но, как оказалось, верил всуе , то есть впустую , поскольку успеха так и не достиг. А если б достиг, то какое же это суе верие? Это — самая настоящая и вполне подходящая жизненная вера. Какая же разница, во что ее облекать — в миф о Кришне или в миф о Заратустре?
Одним словом, не может быть суеверием то, что позволяет жить вопреки всем трудностям и лишениям. А «суеверия» народные, по мысли Толстого, эту биологическую задачу вполне выполняют.
«И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противуположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а со спокойною и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это — добро. В противуположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще всего с радостью. В противуположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть неспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа» [22] [22] Толстой Л.Н. Исповедь. С. 48.
.
Вот живут, к примеру, два человека. Один не работает, только развлекается, но все время жизнью своей недоволен. Болеть не любит, огорчается от этого, полагает, что болезнь- зло, идет лечиться к врачам. Умирать не хочет. Как-то расстраивается от такой возможности. Другой, наоборот, тяжко трудится, но так и не может заработать себе на развлечения. Так, на мороженку или на пиво. Но жизнью своей — доволен! Заболел — значит, так и должно быть. По грехам нашим и хвори наши. Все свои горести считает благом. Умирать пришла пора — радуется, как ребенок.
Что из этого следует?
Из этого следует, что у второго человека такая удачная жизненная вера, что первый может ему только позавидовать. А наразвлекавшись всласть в своей праздной жизни, он непременно захочет причаститься этой удачной жизненной веры, потому что умирать ему страшно. Давай, скажет, я в вашу языковую игру перейду. Примете меня? Могу помочь, если что, материально там или административным ресурсом, а нет их, так просто печатным словом… Но пусть это будет только языковая игра , не более того. Совсем уж принимать ваш жизненный контекст, в курную избу переезжать мне как-то не хочется. Разве что попахать или покосить пару раз…
Л.Н.Толстой, разумеется, на закате жизни решал главным образом свои собственные проблемы. Определять свою политическую позицию он не считал нужным, поскольку ко всей политике в целом питал глубокое презрение. Однако С.Цвейг с полным основанием считает его анархистом: «… В наши дни другие великие движения в области веры — изначально-христианский анархизм Толстого или непротивление Ганди — имеют на милльон людей связующее или возбуждающее влияние…» [23] [23] Цвейг С. Врачевание и психика. Ф.Месмер, М. Беккер-Эдди, З.Фрейд. СПб.: ТсОО «Гамма», 1992. С.77.
Интервал:
Закладка:


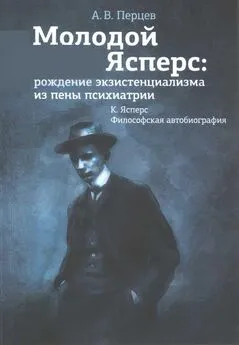
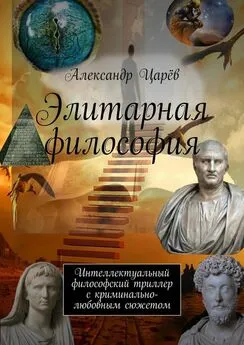
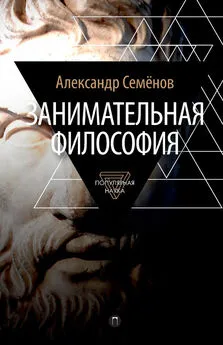
![Александр Соколов - Странная обезьяна [Куда делась шерсть и почему люди разного цвета]](/books/1066936/aleksandr-sokolov-strannaya-obezyana-kuda-delas-sh.webp)