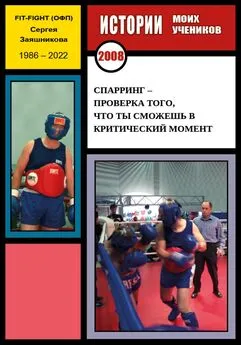Анри Мишель - Идея государства. Критический опыт истории социальных и политических теорий во Франции со времени революции
- Название:Идея государства. Критический опыт истории социальных и политических теорий во Франции со времени революции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:5-91129-012-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Мишель - Идея государства. Критический опыт истории социальных и политических теорий во Франции со времени революции краткое содержание
«Идея государства» – самая известная работа французского философа, историка государства и права Анри Мишеля (1857–1904). В этой книге он стремился выявить естественные связи учений о государстве у представителей различных направлений философской и научной мысли и различных эпох, а также связи выдвигаемых ими учений с общим развитием философии и общества в целом. В начале XX в. «Идея государства» занимала почетное место среди наиболее актуальных философских трудов и была настольной книгой для всех, кто сколько-нибудь серьезно интересовался философскими учениями о государстве. Несомненным доказательством этой популярности служит то, что за первые три года после первой публикации «Идеи государства», книга выдержала еще два издания, а всего во Франции «Идея государства» переиздавалась более десяти раз. Последнее издание вышло в свет в 2003 г. в серии «Антология французской философии». Неослабевающий интерес к наследию Анри Мишеля объясняется тем, что его внимание было сосредоточено на непреходящих проблемах – соотношении власти и свободы, прав и обязанностей личности, поиске оптимального баланса между интересами общества и составляющих его людей. Книга может быть интересна философам, историкам, политологам, а также всем, кто интересуется теорией государственного устройства и философскими взглядами на государство.
Идея государства. Критический опыт истории социальных и политических теорий во Франции со времени революции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ни Лепле, ни Курно, ни Лавеле не высказывают в данном случае личного мнения, не делают оценки , которые коллективизм имел бы полное право оспаривать или опровергать. Все трое приводят факты , и для нас важно отметить здесь то, что эти факты, в свою очередь, имеют определенный смысл и что, пытаясь читать в будущем, нет основания не принимать их в расчет, если не предпочтительно перед фактами, приводимыми Карлом Марксом, то по крайней мере наравне с ними.
Таким образом, концепция коллективизма страдает до известной степени произвольностью построения. Различные части ее не связаны друг с другом неразрывною цепью. Возможны многие затруднения, сомнения и возражения: важный недостаток теории, которая считает себя необходимым выражением, безусловно, адекватной и совершенно чуждой противоречию формулировкой реальных соотношений.
Мы поймем эти непоследовательности, если проследим источники мысли Карла Маркса и укажем на те разнообразные элементы, из которых создалась его система.
Я уже указывал, чем он обязан Гегелю: широкой философской точкой зрения – идеей эволюции всего существующего. Я вкратце отметил также и то, что он заимствовал у первых французских социалистов. Он обязан им отдельными взглядами: отрицательным отношением к чистой политике, равнодушием к учреждениям, которые, по-видимому, всего более способны благоприятствовать развитию демократии, как, например, всеобщее избирательное право, осуждением режима сложных ассоциаций, которые, по мнению французских социалистов, привели бы лишь к возрождению в более тяжелой форме конкуренции и ее бедствий. Но это не все: Фурье, Прудон, с своей стороны, оказали влияние на ум Маркса. Первый уже объясняет , а следовательно, провозглашает необходимым осуждаемое им настоящее. Второй отдает государство, организм по существу политический, на суд и презрение общества, для жизни которого необходима лишь администрация. Наконец, первые французские коллективисты дали Марксу и Энгельсу самую формулу обобществления средств производства и земли [1775].
В свою очередь экономисты дали Марксу более, чем то можно было бы думать. Через Прудона и Фурье он – их косвенный наследник. Кроме того, он сам знал их очень хорошо и пользовался ими непосредственно. Сноски в Капитале свидетельствуют о том доверии, с каким автор относился к современной ему экономической литературе. Являясь в данном случае во многих отношениях продолжателем Фурье и Прудона, он лишь доходит до крайних выводов из принципов, установленных экономистами. Не рискуя быть парадоксальным, можно утверждать, что с теоретической точки зрения революционный социализм в большей своей части политическая экономия, доведенная по прямой линии до абсурда.
Разве Адам Смит не отказывался признать иной источник богатства, кроме труда? Роль Маркса состояла почти лишь в том, что он сузил значение этого слова. Космополитизм социалистов – это не что иное, как идея «всемирной республики продуктов», столь любезная для экономистов и для самих философов. Если эта идея кажется недопустимой в настоящее время вследствие исторических событий, последствия которых мы переживаем еще и теперь, то все же нужно признать, что с необходимыми поправками она была бы желательным завоеванием в будущем.
Маркс не мог избежать обычной участи мыслителей, выступающих против какой-либо доктрины. Чтобы опровергнуть противника, они рассматривают вопросы под тем же углом, что и он, и вместо того чтобы исправить ошибку, подвергаются опасности удвоить ее новой, противоположной первой.
Теория ренты Рикардо является, несомненно, в своем роде теорией прибавочной ценности. Как не сказать, что одна представляет из себя такую же крайность, как и другая? Более того, чистое и простое наблюдение фактов никогда не внушило бы Карлу Марксу идею отрицания меновой ценности и самой роли обмена. Если он отказывается допустить всякую другую ценность, кроме потребительной, то это объясняется его желанием противодействовать тем экономистам, которые не видели в политической экономии, в конце концов, ничего, кроме обмена. Припомним излюбленную формулу Бастиа: обмен – это сама политическая экономия. Отсюда следует, что нельзя говорить о чрезмерности облегчения обмена, о чрезмерности свободы. Отсюда следует также, что типичным отношением между членами общества следует считать то, которое свойственно обмену, – договор. Отсюда следует, наконец, что свободный договор является последним словом политической и социальной философии. Карл Маркс отказывается допустить, что «личности существуют друг для друга лишь как представители принадлежащих им товаров» [1776]. Но он доходит в этом отношении до крайности: он отрицает и подвергает проскрипции обмен. С уничтожением же и отрицанием обмена сводятся к нулю laissez faire и договор. Таким образом, отрицание и уничтожение всякой свободы, отрицание и уничтожение договора во всех его формах в экономической, социальной и политической жизни следуют за уничтожением и отрицанием обмена с такою же логической необходимостью, с какою у экономистов были связаны между собою противоположные этим интересы. Между системою Маркса и той, которую он критикует, существует параллелизм в построении.
Таким образом, некоторые возражения, поражающие тезисы экономистов, обращаются без всякого изменения против тезисов Маркса. Если следует считать крайним, а следовательно, ложным утверждение, что «общество сводится к обмену», то не менее крайне, а, следовательно, и не менее ложно положение, что общественные отношения всецело сводятся к потреблению. Исследования о богатстве народов и еще более сочинения учеников и последователей Адама Смита занимаются абстракцией: богатством как таковым и условиями его увеличения. Маркс выставляет новую абстракцию – труд, как таковой , который должен стать не только законом, но универсальным орудием. Политическую экономию справедливо обвиняли в недостатке гуманности, но и научный социализм не избегает этого обвинения. Он уже не говорит, подобно прежнему социализму: «каждому по его потребностям», – формула, представляющая важные затруднения, но, по крайней мере, чуждая сухости и жесткости. Он говорит: «Каждому по количеству его труда», устанавливая таким образом совершенно механическое правило, которое при стогом применении лишило бы участия в распределении и пользования необходимым всех, кого умственная или физическая болезнь, на которые плохо обратили внимание, сделала бы неспособными выполнить предназначенную для ни х равную долю общественного труда.
Научный социализм, будучи столь же односторонним, абстрактным и сухим, как и сама политическая экономия, опирается, кроме того, на постулат, который, несомненно, труднее допустить, чем постулат экономический. Как мы припомним, экономический постулат сводится к тому, что необходимо благоприятствовать прогрессу цивилизации, характеризующейся прежде всего развитием обмена и крупной промышленности. Если допустить, что исключительной задачей общества является прогресс подобным образом понятой цивилизации, то свободная конкуренция получает оправдание со всеми своими, как хорошими, так и дурными, последствиями. Но можно ли утверждать, что такова именно главная задача социальной организации?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


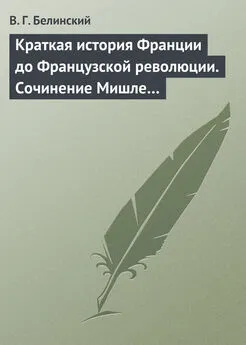


![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/1081966/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik.webp)