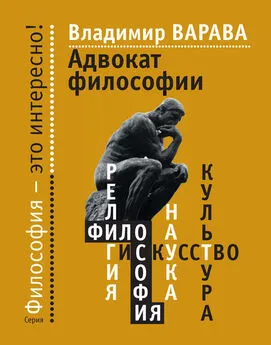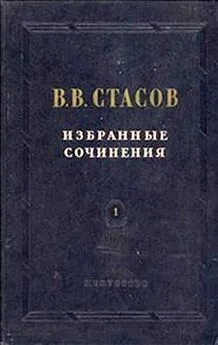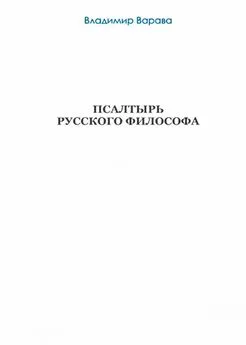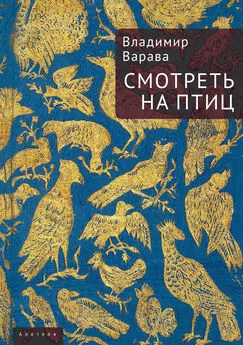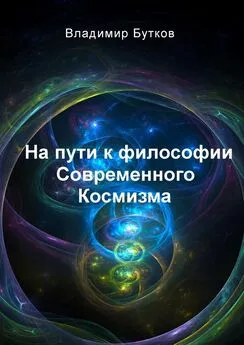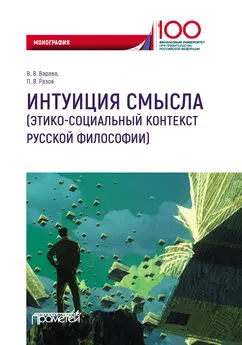Владимир Варава - Адвокат философии
- Название:Адвокат философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Этерна»2c00a7dd-a678-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-480-00336-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Варава - Адвокат философии краткое содержание
Особенность этой книги состоит в том, что в ней нет специализированной терминологии и прямых ссылок, цитат и упоминаний различных авторов. В ходе ответов на поставленные вопросы обсуждаются такие проблемы, как сущность философии; отличие философии от науки, религии, искусства; социальная миссия философии в обществе и культуре. Рассматриваются причины современного «упадка философии», которые связываются с тем, что философия подменяется иными формами духовной культуры. Ставится задача раскрыть значимость философии средствами самого языка и через обращение к жизненным ситуациям человека.
Книга будет интересна для всех, кто интересуется философской проблематикой, не исключая, однако и тех, кто подвизался на профессиональном философском поприще.
Адвокат философии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
179. Что такое ужас?
Как часто употребляется в нашем языке слово «ужас»! Это восклицание то и дело слышится в самых различных житейских ситуациях. Им обозначается сильная эмоция негативного порядка. Еще ужасом называют такое психологическое состояние, как высшее проявление страха, когда ужас переходит в парализующую волю стадию. Еще есть фильмы ужасов – один из жанров современного кинематографа, чей диапазон весьма широк: от массовых примитивных продуктов до серьезных психоделических драм. В экзистенциальной философии ужас – одна из главных категорий, в ней подчеркивается его немотивированный (а значит, непсихологический) характер. Стилистически это слово – одно из наиболее заманчивых для эстетствующего литератора. Культура полна проекциями банального ужаса, который по мере своей эстетизации теряет глубину и остроту. Ужас совершенно неосмыслен и, возможно, по-настоящему не пережит. К ужасу нужно пробираться не через экзистенциализм, а через самое обычное, через то, что всегда под рукой. Но это самое трудное, если не невозможное. Ужас – как бы изнанка философского удивления, его противоположный полюс. По сути, удивление и ужас – одно состояние: ужас удивителен, а удивление ужасно. Главное, что перечисленное не имеет отношения ни к психологии (это не аффект), ни к религии (это не «страх Божий»), ни к искусству (это не восторг и вдохновение), ни к повседневности (это не испуг). Оно имеет отношение к бытию и к бытийному в человеке. В какой мере человек чувствует удивление и ужас бытия, в такой мере он философ, потому что бытие как таковое не удивительно для обыденного сознания (оно удивляется чему-то сверхъестественному) и не ужасно (оно боится чего-то особенного, страшного, а не ужасается тому, что есть).
180. В чем же последняя надежда человека?
Может возникнуть сомнение не в самой надежде, но в последней надежде. Само словосочетание «последняя надежда» строго рационалистическим мышлением может быть взято под подозрение. Но последняя надежда есть. И ее характеристика в качестве последней говорит о ее безусловных свойствах. Ошибочно путать ее с конкретными целями, планами, желаниями. Эта надежда не связана ни с «небом», ни с «землей». Она и надежда именно потому, что не связана ни с чем зримо-жизненным или незримо-сверхжизненным, то есть безнадежным. Последняя надежда всегда будет последней и в качестве таковой не осуществится никогда. Осуществить надежду значит убить ее. Жизнь в свете надежды наиболее подлинна с точки зрения бытия. Чистый свет надежды всегда просветляет жизнь, выявляя в ней сор мелких желаний и стремлений. Надежда, в конце концов, – самое надежное, то, что не подведет, не оставит никогда. Именно потому она никогда не умирает, в этом ее надежность. Недостижимость последней надежды есть ее неуничтожимость, и в этом, возможно, наша последняя надежда.
181. Так, значит, философствовать – это учиться умирать?
Так до сих пор считают многие представители философии. Однако здесь присутствует обманчивая двойственность, которую не всегда бывает легко обнаружить. Есть, конечно, особое философское понимание смерти; оно не всегда очевидно, и путь к нему не прост. Высокая философская мысль о смерти не такая однозначная и конкретная, каковой является идея философии как умирания, которая всегда легко переводится в русло христианского умерщвления. В этом состоит наибольший отход от философии, поскольку за подобным умерщвлением стоит умерщвление не только плоти, но и духа, что есть заклание всех претензий смертного грешника на самостоятельный прорыв в метафизическую область, поскольку она давно и крепко приватизирована «подвижниками духа». В недрах философии (вернее, околофилософии) некогда зародилась терапевтическая струя, предлагавшая метод избавления от страха к смерти через «соумирание» с ней в жизни. Логика здесь такова: стоит постепенно умертвлять живое посредством созерцания «небесного», чтобы, когда наступит власть мертвого, живое оказалось бы почти неживым; следовательно, смерти не досталось бы уже ничего существенного. Это сопровождается риторикой о тщетности, бренности и конечности всего сущего, снижающей позитивный аспект жизни. Сама жизнь трактуется как заболевание, от которого смерть – верное лекарство. Здесь гарантировано стопроцентное излечение. Последствия аскетической философии оказались столь сильны, что повлияли на христианскую религию и постхристианскую психологию, в которых жизнь попадает в «смертельную» ловушку. Дело философии здесь существенно нарушается; философия именно в этом пункте отходит от бытия и уходит в несущественное . Философия – не «школа умирания», поскольку жизнь в целом не есть «подготовка к смерти», ее преддверие. Смерть – вообще не то, что о ней думает большинство. Но понять, что смерть «совсем не то», можно лишь с беспристрастных высот философии. Философам действительно присуще некоторое настороженное отношение к жизни, вообще ко всем эмпирическим вещам. Но это не более чем настороженность, из чего нельзя делать ложных выводов о том, что приготовление к смерти есть высшая философская цель. Такая «некрофилическая» философия рождает искаженное понимание философии, отпугивающее от нее людей. Есть жизнь, есть смерть, есть таинственная связь между ними. Философия пытается ее постичь, постичь таким образом, чтобы человеку остаться человеком, а не попадать в заложники смерти. Как заложник смерти (а таковым человек является, прежде всего, в научной и религиозной картине) он не может ничего прояснить, поскольку его взор ослеплен либо страхом перед смертью, либо вожделением блаженств иной жизни, что сопровождается ненавистью к этой; в любом случае он угнетен своей смертной сущностью. Философия учит достойному отношению ко всему, в том числе и к смерти. Именно потому, что смерть способна уязвлять человека более всего в жизни, требуется философия, которая может возбудить даже наиболее радикальные идеи преодоления смерти , но никогда – идеи умирания. Поэтому сводить все дело философии только лишь к подготовке к смерти значит профанировать саму смерть. Философия намного страшнее, чем думают «терапевты духа».
182. Можно ли обойтись без религии?
По нашему мнению, надо говорить не о религии вообще, но о христианстве (в других религиозных традициях ситуация иная). Так вот, можно ли обойтись без христианства – без того христианства, которое некогда было основой духовных ценностей европейской цивилизации, сформировало главные институты нашей культуры? Существует ли еще сегодня такое христианство? Эта постановка вопроса может испугать многих, привыкших мыслить себя принадлежащими к большой традиции, в которой можно легко находить смысл и оправдание своего существования. Материалистов и атеистов такая постановка вопроса обрадует, так как они самим фактом своего безрелигиозного существования подтверждают это. Однако здесь все сложнее. Обойтись без религии не значит жить в атеистическом мире. Атеизм – не антитеза религии. По крайней мере, времена, когда можно было противопоставить атеизм теизму, прошли; история показала, что атеизм всегда слабее и ничтожнее своего оппонента. Вопрос в том, как можно обойтись без религии, не будучи атеистом? Это – более гибкая постановка; возможно, она потребует появления нового человека, человека с новыми моральными и интеллектуальными свойствами. Освобождение от тотальности христианской метафизики не может не способствовать улучшению нравственной природы человека, ведь в действительности никто уже не живет в христианском мире, но жизнь продолжает свершаться в мире, пропитанном христианскими ценностями. Нужна гигиена, новая гигиена духа, ибо наступает время, когда ни теизм, ни атеизм более не будут представлять собой реальной силы для усложненного и утонченного человека, испытавшего горькое экзистенциальное разочарование, но не ставшего циником и негодяем, способного на сильную любовь, бескорыстное добро, объективную оценку и имеющего к тому же надежду.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: