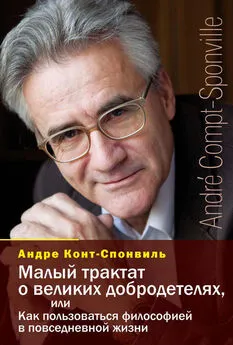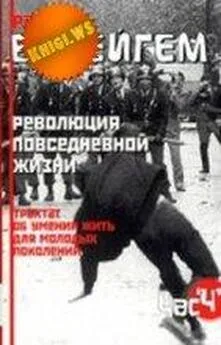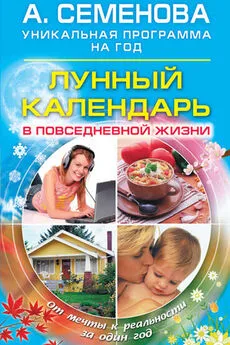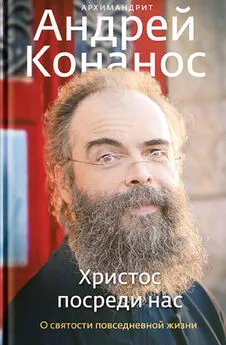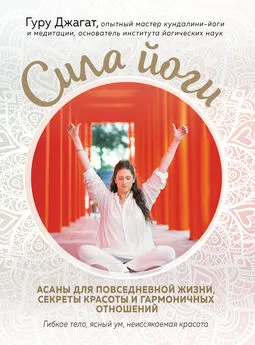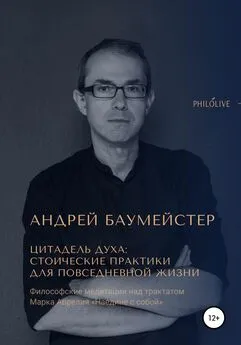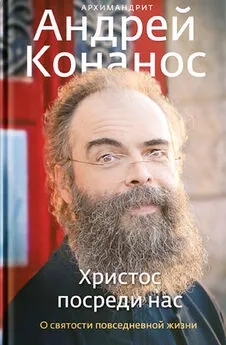Андре Конт-Спонвиль - Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни
- Название:Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Этерна»2c00a7dd-a678-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-480-00290-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андре Конт-Спонвиль - Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни краткое содержание
Книга известнейшего современного французского философа о моральных абсолютах и основных добродетелях. Интеллектуальный бестселлер, пользующийся огромным успехом во многих странах мира.
Для широкого круга читателей..
Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Великодушие, как и большая часть других добродетелей, по-своему согласуется с евангельскими заповедями. Возлюбить ближнего как самого себя? Если бы мы были на это способны, то великодушие нам было бы ни к чему. Вернее, оно понадобилось бы нам исключительно в отношениях с самими собой (иногда в великодушии больше всего нуждается тот, кто не способен любить себя). Но зачем нам эта заповедь, если мы не в состоянии ее исполнить? Ведь требовать можно только действия, поступка. Следовательно, речь идет не о том, чтобы возлюбить, а о том, чтобы поступать так, как будто мы возлюбили: ближнего и близкого, незнакомца и самого себя. Не о страстях или особой привязанности, которая не передается от одного к другому, а о поступках. Например, если бы ты возлюбил эмигранта, который страдает от голода и болезней, разве ты не поспешил бы к нему на помощь? Если бы ты возлюбил нищего, разве отказал бы ему в пожертвовании? Если бы ты любил его как самого себя, что бы ты сделал? Ответ отличается жестокой простотой и лежит в области морали и требований добродетели. Любовь не нуждается в великодушии, но, к сожалению, только любовь способна без него обходиться, не впадая в эгоизм и никогда не ошибаясь.
Мы любим любовь и не умеем любить. Из этой любви и нашей к ней неспособности рождается мораль. Спиноза мог бы сказать, что здесь имеет место имитация чувств, но… Каждый имитирует те чувства, которых ему недостает. Как вежливость является видимостью добродетели (быть вежливым значит вести себя так, как будто ты добродетелен), так всякая моральная добродетель, очевидно, является видимостью любви. Быть добродетельным значит вести себя так, как будто ты любишь. За неимением добродетели мы притворяемся, и это-то и называется вежливостью. Из-за неумения любить мы тоже притворяемся, и это называется моралью. А дети копируют родителей, которые в свою очередь копируют своих родителей, и так далее и тому подобное. Шекспир был мудрым человеком: мир – театр, жизнь – комедия. Впрочем, не все роли и не все актеры здесь ценятся одинаково… Возможно, мораль – не более чем комедия, но что за комедия без морали? И что на свете серьезней и реальней смеха и слез? Да, мы притворяемся, но это не игра: правила, которые мы соблюдаем, не столько развлекают нас, сколько определяют нашу сущность – к худу или к добру. Да, мы, если угодно, играем роль, но каждый – свою. Это наша пьеса, это наша жизнь. В ней нет ничего произвольного и случайного. Тело ведет нас, влекомое желаниями; детство подводит нас к этому, движимое любовью и законом. Желание прежде всего стремится брать. И любовное желание хочет прежде всего поглощать, пожирать, обладать. Но закон это запрещает. И любовь запрещает, отдавая даром и служа защитой. Фрейд гораздо ближе, чем сам он полагал, подошел к евангельскому духу. Мы всосали любовь с молоком матери – ровно столько, чтобы понять, что одна любовь способна дать нам ощущение полноты бытия. И как только мы это понимаем, мы начинаем тосковать по любви, которой нам всегда будет не хватать. Отсюда ведут происхождение наши добродетели, порой приблизительные и слабые. Они – та почесть, которую мы воздаем любви, когда ее нет, и признак того, что она по-прежнему значима для нас даже в свое отсутствие. И если любовь царствует, но не правит, она продолжает отдавать нам приказы – именно это называется добродетелью.
Нам не хватает любви, повторю я, и часто это единственное практическое доказательство того, что она у нас есть.
Мы превратили этот недостаток в силу, даже в несколько сил, и именуем их добродетелями.
Это в полной мере относится к великодушию. Мы показали, что оно зарождается там, где нет любви, но… Речь не идет о полном отсутствии любви, потому что у нас, по меньшей мере, остается любовь к любви, и ее достаточно, чтобы сохранять свое значение в качестве модели или заповеди там, где любовь как чувство потерпела крах. И поскольку любовь побуждает нас отдавать, то в отсутствие любви эту роль выполняет великодушие, призывая отдавать тем, кого мы не любим, и отдавать тем больше, чем сильнее они нуждаются или чем богаче наши возможности. Да, именно так. Там, где любовь не может нас вести, потому что ее нет, пусть нас ведет необходимость срочно прийти к другим на помощь. Иногда это поведение ошибочно называют милосердием. Ошибочно потому, что подлинное милосердие и есть любовь, а фальшивое милосердие есть снисхождение или сострадание, тогда как нужно называть его великодушием. Ведь оно и в самом деле зависит от нас, являя собой полную свободу – в мыслях и поступках, – восстающую против рабства инстинктов, собственничества и страхов.
Конечно, лучше бы, если бы это была любовь. Именно поэтому мораль – это еще не все и даже не самое главное. Но все-таки великодушие лучше эгоизма, а мораль лучше безволия.
Великодушие не является противоположностью эгоизма в том смысле, что оно свободно от эгоизма. Послушаем Спинозу. «Так как разум не требует ничего противного природе, то он требует, следовательно, чтобы каждый любил самого себя, искал для себя полезного и стремился ко всему тому, что действительно ведет человека к большему совершенству, и вообще чтобы каждый, насколько это для него возможно, стремился сохранять свое существование» («Этика», IV, 18, схолия). Мы не можем отделаться от принципа удовольствия, поскольку не можем вырваться из реальности. Но это не значит, что все удовольствия имеют равную ценность. Решают радость и любовь. Так что же такое великодушие? «Под великодушием, – продолжает Спиноза, – я разумею то желание, в силу которого кто-либо стремится помогать другим людям и привязывать их к себе дружбой по одному только предписанию разума» («Этика», III, 59, схолия). В этом смысле великодушие, наряду с решительностью и храбростью, является одним из условий душевной силы: «Те действия, которые имеют в виду одну только пользу действующего, я отношу к мужеству, а те, которые имеют в виду также и пользу другого, я отношу к великодушию» (там же). Таким образом, в обоих случаях имеет место польза, и, что важно, польза для того, кто действует, то есть для самого субъекта. Никто не свободен от эго, вернее, освободиться от эго можно, только выполнив вначале его главное условие – сохранять свое существование как можно дольше и стремиться, чтобы это существование было как можно лучше. Иначе говоря, выход один – действовать и жить. Это не всегда осуществимо, иногда приходится умирать, мало того, рано или поздно умирать приходится всем, потому что вселенная сильнее нас, это знает каждый, и Спиноза этого не отрицает. Но есть люди, которые предпочитают смерть предательству, отречению, измене. Эти люди утверждают свою сущность и жизненное могущество, противопоставляя их смерти или подлости. Пока они живы, победа за ними. Пока они сражаются или сопротивляются, польза на их стороне. Спиноза часто повторяет, что добродетель – это самоутверждение и поиск собственной пользы, но в качестве самого яркого примера приводит Христа. Собственная польза – не всегда удобство и не обязательно долгая жизнь. Это самая свободная и самая правильная жизнь. Речь идет не о том, чтобы жить вечно – на это никто не способен, – а о том, чтобы прожить свою жизнь хорошо. А вот это невозможно без мужества и великодушия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: