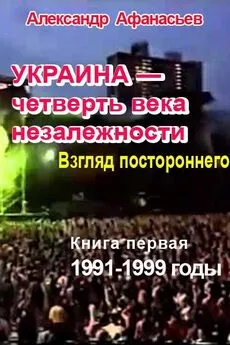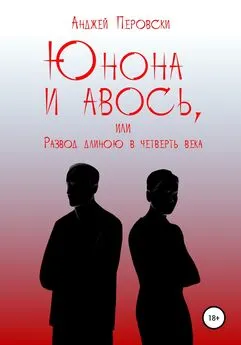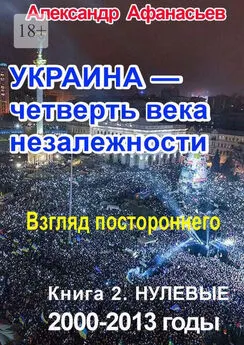Андрей Шитов - Четверть века в Америке. Записки корреспондента ТАСС
- Название:Четверть века в Америке. Записки корреспондента ТАСС
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-134176-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Шитов - Четверть века в Америке. Записки корреспондента ТАСС краткое содержание
Книга — настоящий кладезь информации для тех, кому интересно, как работают иностранные корреспонденты, кто хочет погрузиться в тонкости и секреты «второй древнейшей» профессии. А пытливый взгляд матерого журналиста позволит увидеть «американскую мечту», как она есть, без наносного пафоса и прикрас.
Четверть века в Америке. Записки корреспондента ТАСС - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я допускаю, что он действительно во все это верит, как и чуть ли не весь вашингтонский политический бомонд. Но со своей стороны считаю такое мнение мифом — в лучшем случае добросовестным заблуждением, а в худшем сознательным и циничным враньем.
Между прочим, именно из-за этого мифа Москве всегда легче было иметь дело в Вашингтоне с республиканцами, а не с демократами. Либералы как раз больше всех веруют в свои «универсальные ценности» и стараются «облагодетельствовать» ими, в том числе и насильно, весь мир. А консерваторы все же признают, что и ценности, и национальные интересы у США и других стран могут быть разными. Мне это не раз разъясняли американские знакомые из числа политических реалистов.
На самом деле моральный релятивизм насаждается самими американцами (и прежде всего как раз либералами) через «политкорректность», против которой восстал и которую постоянно демонстративно нарушает президент США Дональд Трамп. А его идеологические оппоненты на это ведутся и уже доходят до того, что публично призывают — со страниц ведущих газет — к отказу в борьбе против него даже от соблюдения традиционных норм качественной журналистики. Я, например, считаю, что тем самым они как раз и подрывают устои своей американской демократии. И знаю в США аналитиков, которые с этим согласны.
Дочь одного моего московского приятеля училась в престижном нью-йоркском университете. В разговоре о студенческом житье-бытье она однажды обмолвилась, что с американскими однокашниками ей скучно. Дескать, у нас спроси о чем угодно десять человек — услышишь десять мнений. А там все говорят примерно одно и то же, как под копирку.
Как же так? Ведь они же по идее индивидуалисты и боготворят свободу во всем. Но вот Гренье, которого я конкретно об этом не спрашивал, а просто просил порассуждать о мифах, считает, что такого рода конформизм — «очень давняя американская привычка», из-за которой еще первый летописец заокеанской демократии Алексис де Токвиль «утверждал, что в Америке меньше интеллектуальных дискуссий, чем в любой другой известной ему стране».
По словам моего вашингтонского знакомого, американцам, конечно, свойственен «крайний релятивизм» в суждениях, и они могут даже о религиозной догме сказать, что та верна только «на их взгляд». Но после того как общественное мнение сложилось и устоялось, общепринятая точка зрения начинает восприниматься как «абсолютная истина», — написал философ. И добавил, что тогда уже все выходящее за рамки этого абсолюта «хуже, чем неверно, — оно опасно и пугающе».
По натуре, на его взгляд, его соотечественники «отдают большое предпочтение честности и восхищаются теми, кому хватает смелости ее проявлять». «Но беда в том, что американцы верят в миф, будто они свободны, — посетовал Гренье. — Они не сознают, что смертельно боятся выделиться из толпы… Общество держит их железной хваткой, хотя и невидимой».
Собственно, гипнотическая диктатура «общего мнения» — это аксиома, закрепленная не только в классической политологии (скажем, у «отца либерализма» Джона Локка), но и в художественной литературе. «Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения… Мы все так говорим — значит, это правда!» — вопили бандерлоги у Редьярда Киплинга.
Правда, я все же уточнил бы в защиту американцев, что они, на мой взгляд, прекрасно умеют отстаивать свою индивидуальность и свою свободу во всем, что касается их лично. А зависимость от чужого мнения и даже стадность могут проявлять в вопросах, которые им кажутся отвлеченными и практически маловажными.
Конечно, как многие предупреждают, это делает их уязвимыми для политической пропаганды — и своей, и чужой. Может, поэтому их идейные вожаки так и переполошились из-за приписываемого России «вмешательства» в их политику.
Кстати, подход к России в целом тоже мифологизирован, причем непоследовательно. С одной стороны, американцев стращают, будто «рука Москвы» дотягивается чуть ли не до Белого дома; с другой, убеждают, будто Россия — отсталая страна, которая и в подметки не годится США. Но ведь и в нашем общественном сознании уживаются не менее противоречивые представления об Америке.
Разговор о мифах можно продолжать, наверное, до бесконечности.
Например, американцы убеждены, что их вооруженные силы «всех сильней» — прежде всего, в технологическом и финансовом отношении. На этом основан миф о почти полной физической неуязвимости США, серьезно подорванный терактами 11 сентября 2001 года.
При этом «миф о непобедимости» американских военных, на мой взгляд, как таковой отсутствует. Что тоже понятно: страна практически непрерывно воюет, но при этом провалы, включая Вьетнам, всем памятны и болезненны, а успехи сразу и не упомнишь. Ни Ирак, ни Афганистан, ни Ливию к их числу не отнесешь. Теперь вот Вашингтон пытается приписывать себе «разгром ИГИЛ» (американское название запрещенной в России группировки «Исламское государство») в Сирии, но ведь и там до тех пор, пока за дело не взялась Россия, никакой победой не пахло…
Я вот только что ездил на юбилейные торжества по случаю 75-летия полного снятия блокады Ленинграда и там вновь проникся осознанием того, что самое мощное оружие — это несгибаемая сила духа. А есть ли она у американцев — это еще бабушка надвое сказала.
Системно, мне кажется, нельзя не упомянуть еще неистребимую веру в прогресс. Конечно, это сложная и спорная тема. Но разве не закономерно сомнение: «Оправдывается ли новое одним тем, что оно новое?» Гренье вот считает, что это «повсеместно распространенный миф», равно как и представление, будто «технология — это совершенно нейтральная вещь, „развитие“ которой неизбежно и неостановимо».
Да, в Америке придумали «айфоны». Но Америка остается и единственной в мире страной, применившей ядерное оружие и уничтожившей сотни тысяч человек в Хиросиме и Нагасаки. Вот создание все более смертоносных вооружений — это прогресс? А ведь это повсюду считается одним из ключевых достижений…
Да и вообще, многие, включая, например, патриарха американской геополитики Генри Киссинджера, уже публично задаются вопросом о том, не грозит ли человечеству закат истории, какой мы ее знаем, из-за появления и быстрого развития искусственного интеллекта. И о том, «что станется с человеческим сознанием», если «рекомендации, вырабатываемые машинами для „оптимизации“ нашей жизни, станут недоступными для нашего собственного понимания».
И дело не только в технологиях. В политике на веру в прогресс опираются в конечном счете и те мифы об американской «исключительности» и знании «правильной стороны истории», о которых уже говорилось. А в сфере морали «прогресс», понимаемый как непрестанное расширение свобод и снятие всех и всяческих ограничений в общественнной и культурной жизни, не только размывает границу между традиционными представлениями о добре и зле, но, по сути, и снимает с людей ответственность за личное духовное самосовершенствование.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: