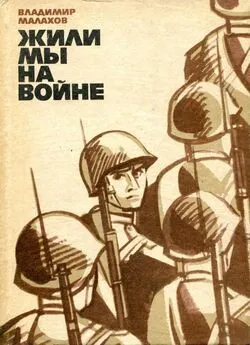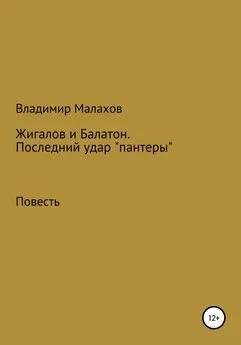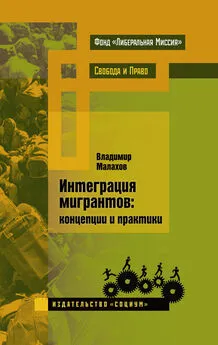Владимир Малахов - Национализм как политическая идеология
- Название:Национализм как политическая идеология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный дом Университет
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-98227-089-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Малахов - Национализм как политическая идеология краткое содержание
Национализм рассматривается в сопряжении с его противниками и союзниками: либерализмом, социализмом и консерватизмом. В поле исследования находятся непростые отношения национализма с расизмом и фашизмом, равно как и его роль в антиимпериалистических и антиколониальных движениях.
Специальный раздел отведен критике существующих теоретических подходов к изучению национализма. Особое внимание уделено роли национализма на политической сцене различных стран, а также его перспективам в глобализирующемся мире.
Национализм как политическая идеология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кроме того, не следует забывать, что категории «нация», «народ», «этнос» — это прежде всего способ классификации, инструмент деления общества на группы. Наряду с этими классификаторами возможны другие (такие, как «класс», «раса», «конфессия» и т. д.). Перед нами способ понятийной организации социальной реальности, а вовсе не «сама» социальная реальность.
Можно ли раз и навсегда договориться о значении терминов? Например, оставить обыденному языку право отождествлять нацию с этнической группой и принять обязательным для научного сообщества правило, по которому нациями можно будет называть только политически суверенные этнические и культурно-этнические сообщества. В свое время американский социолог Карл Дойч предложил считать «нацией» «народ, обладающий государством». С аналогичным предложением выступал российский этнолог Валерий Тишков. Нации, это, согласно работам В. Тишкова конца 1980-х — начала 1990-х гг., — «самоопределившиеся социокультурные общности». Предложение кажется привлекательным, однако с ним наверняка не согласятся представители очень многих народов, которые могли обладать государством в прошлом, но утратили его впоследствии (баски, татары, сикхи, сардинцы, квебекцы, каталонцы, шотландцы). Кроме того, такой подход неявным образом вводит иерархию между народами и провоцирует конкуренцию, направленную на повышение места в этой иерархии. Например, если грузины — нация, то почему такого статуса лишены абхазы?
Правда, возражения подобного рода высказываются скорее политическими активистами, чем академическими учеными. Уместно предположить, что, оставив политику на откуп тем, кто ею занимается, члены научного сообщества все же сумеют прийти к согласию. Этого, однако, не происходит. В той самой англо-американской литературе — не только общественно-политической, но и научной — в которой доминирует употребление термина nation в смысле state, достаточно сильна и противоположная тенденция: развести эти понятия, ввести различие между «нациями» как политическими сообществами и нациями в «собственном» смысле слова [28] К числу таких ученых принадлежат У. Коннор, Э. Смит, Т. Нэйрн и др.
. По-видимому, не происходит этого по той причине, что научные дискуссии на «национальные» темы, если не прямо, то косвенно, встроены в политико-идеологический контекст. Ученые, вольно или невольно, участвуют в общественных дебатах и, следовательно, не свободны от эмоциональных суждений и от побочных влияний, оказываемых на их позицию конкретной ситуацией в конкретной дискуссии — будь то споры по поводу Северной Ирландии, Шотландии, Басконии, Гавайских островов или Чечни. Те же представители академической науки, которые настаивают на квалификации конфликта в Чечне как межнационального и на обозначении чеченцев как нации, категорически не приемлют выражений «гавайская нация» и «нация навахо» и утверждают, что в последнем случае речь идет об этнических группах [29] См.: Тишков В. Забыть о нации // Вопросы философии. 1998, № 9.
.
Будучи инструментом структурирования социального пространства, термин «нация» представляет собой и инструмент структурирования политического пространства. То, каким образом этот инструмент применяется, зависит от того, кто и в каких условиях его применяет. Уразумение этого обстоятельства привело ряд вдумчивых исследователей к выводу, что «нация» — категория практики, а не анализа [30] См.: Brubaker R. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 1-22.
. Это политико-идеологическое, а не научное понятие. Содержание, в него вкладываемое, определяется интересами людей. А, как известно с древности, если бы геометрические аксиомы затрагивали интересы людей, и они бы оспаривались.
С (само)названием группы тесно связаны статусные ожидания. От того, считается ли некоторая группа людей «нацией», непосредственно зависит судьба многих людей. Направление и объем денежных потоков, статус чиновников, совокупность благ, которые отмерены той или иной группе, в конечном итоге определяются тем, какое имя будет использовано для ее обозначения — будет ли она называться «нацией» или всего лишь «народом», «народностью», «национальностью» или «этнической группой».
В исследовательской литературе сложилось деление национализма на два основных типа — государственный, или «гражданский», и «этнический» (или этнокультурный). В тех случаях, когда агенты социального действия исходят из политической модели нации, перед нами государственный, или гражданский, национализм. Если же социальные акторы понимают под нацией этнокультурное сообщество, мы имеем дело с этническим национализмом, или этнонационализмом.
Эта классификация, однако, весьма условна. Во-первых, она предполагает нормативную дихотомию — противопоставление «хорошего» гражданского национализма «плохому» этническому. Во-вторых, эта классификация непродуктивна для анализа реальных националистических движений и идеологий. Последние несут в себе множество составляющих, в силу чего отнести их к одному из двух типов затруднительно. Наконец, в-третьих, существование собственно «гражданского» национализма, в котором полностью бы отсутствовало представление о культурной или культурно-исторической основе нации, невозможно представить. Даже в Северной Америке националисты исходят из представления о нации как целостности, формируемой общностью происхождения. Стало быть, их нужно отнести к сторонникам «этнического» национализма.
Ниже мы не раз столкнемся с проблематичностью этой понятийной дихотомии. Вместе с тем мы увидим, что отказаться от нее нельзя.
Глава 2.
Ключевые понятия теоретико-политического изучения национализма
Историки много спорили о том, с какого момента можно говорить о существовании наций. Одни начинали отсчет с V в. [31] Так поступает, среди прочих, венгерский историк Истван Бибо; см. Bibo I.. Die Misereder osteuropaiischen Kleinstaterei. Fr/M: Neue Kritik, 1992.
, другие с XVI, третьи — с конца XVIII — начала XIX в. [32] См.: Smith A D. Theories of Nationalism. 2-nd Edition. Duckworth, 1983.
Сходный вопрос заключается в том, с какого времени начинать изложение истории национализма: с 1642, как Хью Сетон-Ватсон, с 1807, как Эли Кедури, или с позднего Возрождения, как Ойген Лемберг.
В теоретико-политическом плане споры о том, когда возникли «нации», бессмысленны. Нация в современном значении слова возникает вместе с возникновением нового понимания суверенитета и легитимности.
Понятие «суверенитет» ввел в научный оборот французский правовед Жан Боден (1530-1596). Согласно Бодену, суверенитет — часть «публичной власти» (puissance publique), определяемая как «абсолютная и вечная власть государства, которую латиняне называют "maiestatum"» [33] Цит. по: Quatritsch H. Souverenitaet // Historisches Worterbuch der Philosohie / Yrsg. V J. Ritter und K. Gruender. Bd. 9. Basel: Schwalbe & Co. AG, 1995. S. 1104.
. Иными словами, суверенитет есть высшая и безраздельная власть. «Тот, кто получает указания от императора, папы или короля, не обладает суверенитетом», — говорит Боден. Суверенитет, согласно другому классическому определению, данному Карлом Шмиттом, есть «власть, рядом с которой не может быть никакой иной власти».
Интервал:
Закладка: