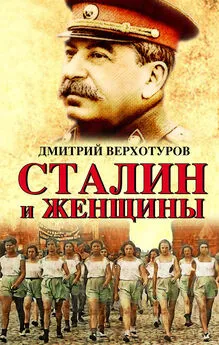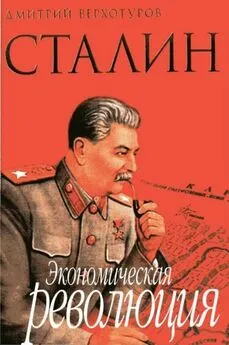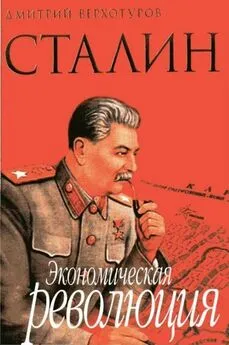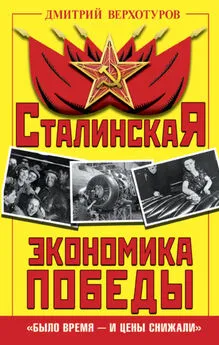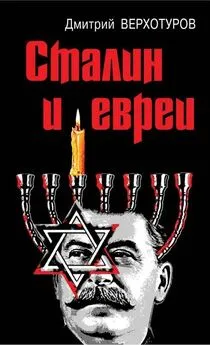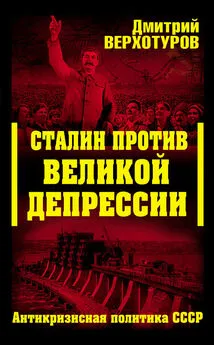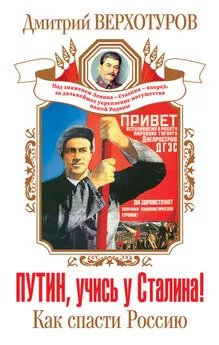Дмитрий Верхотуров - Сталин и женщины
- Название:Сталин и женщины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Яуза
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9955-0930-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Верхотуров - Сталин и женщины краткое содержание
В этой книге многие вопросы, на которые никогда не давались вразумительные ответы, получили свое объяснение.
Каким образом советская власть и лично И.В. Сталин смогли обеспечить женщинам колоссальные, ранее не предоставляемые права и свободы? Почему, несмотря на риторику женского равноправия, во время войны ГКО не проводил всеобщей военной мобилизации женщин? Что позволило женщинам СССР становиться летчицами и трактористками, а мусульманкам снять чадру? Как советская власть железной рукой боролась с проституцией и что думала по поводу «свободной любви»?
Автор проводит нас по малоизвестным страницам советской истории и показывает жизнь Советского Союза с неожиданной стороны. Такой советскую эпоху еще не знали!
Сталин и женщины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это было плохо и для индустриализации, поскольку в это время все фабрики и заводы жаловались на ужасающую текучку кадров, крайне затруднявшую работу и не позволяющую сформировать кадровый рабочий костяк. В культурно-бытовом плане создалась ситуация, близкая к катастрофической.
Итак, исход сельских жителей в города стал свершившимся фактом. Из этого сразу произошло несколько важных последствий, среди которых виднейшее место занимала чудовишая жилищная скученность, острая еще до начала индустриализации. Даже в Москве, в которой велось в 1920-е годы интенсивное жилищное строительство и за 1924–1928 годы было построено жилье для 370 тысяч человек, или для 16 % населения города, средняя площадь жилья на душу населения составляла 5,2 кв. метра с тенденцией к снижению [116]. Была, по крайней мере, надежда, что в скором будущем около 40 % населения Москвы будут переселены в новые дома.
Однако неудержимый поток сельских переселенцев до крайности обострил жилищную тесноту и резко ухудшил быт основной массы городского населения. Для примера, в 1932 году на одного жителя Новокузнецка, в котором велось строительство гордости первой пятилетки – Кузнецкого металлургического комбината, – на человека приходилось 1,27 кв. метра жилья. Можно для пущей наглядности отмерить эту площадь на полу своей комнаты, это будет прямоугольник 100 на 127 см. Нетрудно будет убедиться, что на этой площади нельзя ни сесть, ни лечь с комфортом. Фактически при такой средней площади жилья люди или лежали вповалку рядом друг с другом, или же спальное место использовалось, так сказать, в две смены: пока один работал, другой спал, как на подводной лодке времен Второй мировой войны.
Это касалось всего жилья, включая бараки и землянки, возведенные при строящемся комбинате [117]. И этого не хватало. Люди для жилья занимали любые помещения. Бытовые условия были чудовищными; достаточно сказать, что не хватало столь элементарных вещей, как столов, табуреток и матрасов, отчасти потому, что их просто некуда было поставить.
Сокращение душевой площади жилья было характерно для всех городов СССР, и даже в Москве, где жилье строилось более интенсивными темпами, душевая площадь за довоенные годы упала с 5,5 кв. метра в 1930 году до 4 кв. метров в 1940 году. Это была совершенно типовая картина для подавляющего большинства советских городов времен первой и отчасти второй пятилетки. Где-то было получше, но в среднем площадь жилья в городах на душу населения в это время не превышала 3–4 кв. метров. И это несмотря на то, что с 1929 по середину 1941 года в СССР было построено 205,9 млн кв. метров жилья. Цифры показательные: чуть более 1 кв. метра на душу населения СССР, или по 3,1 кв. метра на городского жителя (городское население составляло 63,1 млн человек в 1940 году). При этом часть построенного жилья не принесла расширения жилой площади, поскольку пошла на замену ветхого и уже непригодного для проживания.
Крайне высокая скученность и преобладание наспех возведенного жилья, конечно, вели и к санитарным проблемам – грязи и антисанитарии, поскольку бараки и землянки, как правило, не имели водопровода, уборных и санзулов, столовых и мест отдыха, помещений для хранения личных вещей и одежды, стирки, сушки и глажки белья. Такие условия были тяжелы и для мужчин, а для женщин они были тяжелее вдвойне.
В таких условиях нечего было и думать о какой-то коллективизации быта. Решить бы самые неотложные проблемы, хоть чуть-чуть улучшить быт, хоть чуть-чуть расселить набитые битком бараки и землянки. Пока шли главные стройки индустриализации, надежды на скорое разрешение жилищного кризиса не было. Но надо было что-то делать. Решением, выдвинутым в то время, стал поход за элементарную бытовую гигиену.
Если нельзя жилище увеличить, то оздоровить в нем условия можно только одним способом: маниакальным поддержанием чистоты. Насколько можно судить по публикациям, первыми за это взялись крупные предприятия, общежития и бараки которых были быстро загажены до невыносимого состояния. Например, первый директор Сталинградского тракторного завода В.И. Иванов распорядился ликвидировать антисанитарию в бараках незадолго до пуска завода, в мае 1930 года. В один из воскресных дней, накопив мыла, моющего раствора и мобилизовав санитарный отряд, Иванов приказал выселить всех жильцов из бараков и обработать помещения. Бараки сначала отмыли, а потом обработали растворами против насекомых. Из них вынесли огромное количество грязного тряпья, бывшего когда-то одеждой. Одновременно санитарный субботник развернулся на заводе [118].
Угледобывающие рудоуправления не могли прибегнуть к такому методу кавалерийской атаки на бытовую гигиену в силу специфики производства и огромного количества въедавшейся в тело и одежду угольной пыли. В шахтерских городах Кузбасса поэтому развернулась методическая осада бытовой гигиены. В них начали с создания советов бараков, ответственных в том числе и за санитарно-гигиеническое состояние. Совет из 2–3 человек избирался на общем собрании жильцов. Полномочия у него были довольно широкие, совет имел право затребовать немедленного выселения жильцов, не соблюдающих гигиену, а иногда даже избирались товарищеские суды [119]. Совет барака организовывал уборку всех помещений и, если была возможность, выделял комнату под красный уголок – место собраний, отдыха, чтения газет и книг. Между бараками началось соревнование за лучшую организацию и чистоту, в Прокопьевске в нем участвовали 28 бараков.
Следующий момент осады бытовой гигиены состоял в переходе самоуправления на более высокий уровень и создание домовых, уличных и квартальных комитетов, ответственных за чистоту не только самих жилищ, но и всей придомовой территории. В 1935 году в десяти индустриальных городах Западной Сибири в таких комитетах было около 6 тысяч человек.
Когда эта система более или менее оформилась, началось проведение слетов и съездов работников комитетов. В феврале 1934 года в Новосибирске состоялся культурно-бытовой слет, на котором 233 делегата низовых бытовых комитетов выработали программу совершенствования быта [120].
Первым пунктом было проведение обследования жилищ специальными комиссиями, с обязательным участием жилищно-санитарных врачей. В 1935 году домовые и уличные комитеты Прокопьевска провели 5892 обследования жилищ рабочих, то есть осмотрели практически все жилые помещения в городе. В отличие от более ранней практики, когда санитарно-гигиеническое обследование жилища преследовало цель получения справки о непригодности жилья, в этот раз обследования были направлены на улучшение быта. Для грязных, запущенных и неуютных квартир составлялись предписания, за выполнением которых следил соответствующий домовый или уличный комитет. От жильцов требовали поддерживать чистоту, регулярно белить стены и потолок, вытравливать насекомых, приобретать мебель, радиоточку, иметь дома цветы, газеты и журналы. Помимо этого жильцы были обязаны содержать в порядке дворы, уборные, коридоры, подъезды.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: