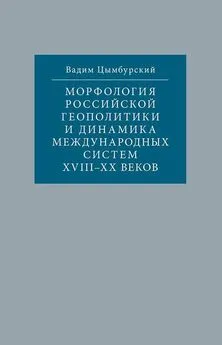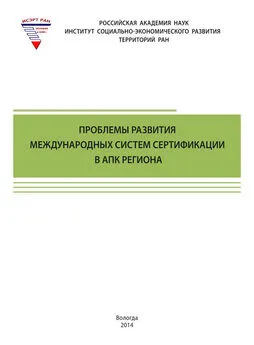Вадим Цымбурский - Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков
- Название:Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Книжный мир
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8041-0839-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Цымбурский - Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков краткое содержание
Своей центральной задачей автор поставил пересмотр традиционных представлений о России как геополитическом субъекте, существующем в парадигме западничества и славянофильства.
В.Л. Цымбурский, исходя из разработанной им концепции, описывает циклы взаимодействия Европы – России – Азии и дает прогноз дальнейшего развития событий на территории евразийского континента.
Книга будет интересна научным работникам, аспирантам, студентам и всем интересующимся историей и практикой геополитики.
Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, речь должна идти не просто о циклах российской <���гео>политики, но о циклической динамике системы, которую можно определить термином «система Европа-Россия», где Европа (во второй половине XX в. – Евро-Атлантика) и Россия выступают как два фокуса двуединой метасистемы [62].
Таким образом, отношение великоимперской России к Европе (Евро-Атлантике) XVIII-XX вв. описывается синхронным развертыванием двух ритмов. Один характеризует динамику европейской системы и подчиняет ему Россию, в ней она играет на правах одного из европейских государств, так что роль ее сводится к поддержке восточного центра Европы или к конкурентной борьбе за право выступать в качестве такого центра. Это ритм Европы и России как европейской державы. В то же время на этот ритм накладывается другой, в рамках которого Россия предстает не частью Европы, но именно одним из фокусов системы, внутри которой она противолежит Европе, будучи связана с ней сложной игрой – сближений, конфронтаций, отталкиваний и расхождений. Если расценивать (а думается, для этого есть все основания) 150-летние милитаристские тренды как одну из характеристик функционирования европейской цивилизации XVIII-XX вв., очевидно, что, разделяя этот ритм, Россия выступает как одна из стран этой цивилизации. В то же время, второй ритм позволяет говорить о ней и о Европе как компонентах системы, которую можно было бы охарактеризовать как «систему цивилизаций». Следовательно, два рода военно-политических отношений между Россией и Европой (Евро-Атлантикой) в XVIII-XX вв. могут рассматриваться как проекция отношений цивилизационных, зримо обнаруживающая неоднозначность цивилизационного статуса России (она – часть европейского мира, и вместе с тем, она воспринимается как постоянный коррелят к этому миру).
IV [63]
Не трудно показать, какое значение может иметь теория циклов системы «Европа-Россия» для исследования русской геополитической мысли – так сказать, для проникновения в ее историческую морфологию. Очевидно, что каждая из выделенных фаз характеризуется специфическим типом отношений между Россией и Евро-Атлантикой, а значит – особым отношением России к внешнему миру, влияющим на характер тех геополитических образов, из которых строят свою картину мира русские политики и идеологи. Переход от фазы к фазе знаменуется сдвигом в геополитическом ракурсе. При этом, вглядываясь в содержание отдельных фаз, можно прийти к заключению, что в рамках конкретного цикла наиболее последовательно и контрастно противостоят фазы С и Е, то есть максимумы российского напора на Европу, когда Империя (в том числе в советской ее версии) непосредственно присутствовала как могущественная сила в жизни Европы, заключающая в себе потенциал силового переустройства западного мира; и с другой стороны, эпохи, когда основная игра российской политики разворачивается по преимуществу вне платформы романо-германского сообщества. Это два контрастных положения, о которых можно предположить априори, что они способны были внушить российской мысли наиболее резко расходящиеся геополитические установки, принципиально различные модусы геополитического самоопределения России. Между тем, содержание прочих фаз едва ли могло быть столь же могущественно. Фазы В всегда бывали краткосрочны и слишком насыщены непосредственной борьбой за выживание, чтобы благоприятствовать развернутой рефлексии, фазы D до конца XX в. имели чисто негативный характер, представляя отрицание и ниспровержение тех больших планов, которые должны были связываться с максимумами российского напора на Европу. И наконец, фазы А, эпохи российского «возвращения» (или «вхождения»), неизбежно отмечены некой компромиссностью игры, столкновением соображений «престижа» (утверждения на европейской сцене) и прагматического интереса, реализуемого в рамках коалиционных сделок. Каждая из этих эпох достойна изучения, с точки зрения того, как ее ситуация преломлялась в геополитическом видении и проектировании, осуществляемом российскими политиками и идеологами. При таком подходе как бы снимается различие между историческим и проблемным подходами. Каждая фаза представляет тип проблемной ситуации, встававшей перед делателями российской политики, и циклы системы «Европа-Россия» при этом складывались в цепочки однотипных, сменяющихся в одинаковой последовательности проблемных ситуаций. Соответственно, возможны два подхода: либо прослеживать те ответы, которые русская мысль последовательно давала на сменяющиеся проблемные ситуации, оспаривая, критикуя и пересматривая свои наработки; и в то же время, можно сопоставлять геополитические концепции, соотносимые в разных циклах с однотипными фазами – т. е. классами проблемных ситуаций. В моей работе я пытаюсь сочетать оба эти взгляда. <���Конец зачеркнутого фрагмента. – Ред. >
III
Можно объединить две основные предпосылки для оформления системы «Европа-Россия» – именно в виде циклически функционирующей геополитической системы цивилизаций. Первая из них – объективная: сосуществуя на тесно соседствующих пространствах Северной Евро-Азии, Европа и Россия обладают нишами, исключительно застрахованными от внешних возмущающих воздействий. Благодаря этой предпосылке в случае с Европой до сих пор могли реализоваться ее сверхдлинные милитаристские тренды. Что до России, то после уничтожения Казанского ханства она могла не бояться значительных угроз с востока, а к концу XVII в., после прекращения турками экспансионистской политики на Севере и ослабления Крымского ханства она уже не знает и значительных угроз с юга. С Китаем и Ираном она соприкасалась на дальней периферии своих интересов, и до конца XX в. столкновения со Средним и Дальним Востоком ни разу не угрожали жизненным интересам России, – от этих платформ ее надежно отделяли леса, степи и хребты Сибири, гряды Кавказа и казахские степи и полупустыни. Итак, на севере Евро-Азии сосуществовали два сообщества, имманентная динамика которых не была возмущена никакой третьей силой, причем – и тут вторая, субъективная причина – с XVIII в. одно из этих сообществ, российское, начинает воспринимать платформу другого сообщества, европейского, отделенною восточно-европейским «междуморьем», как «мировую сцену», основной театр своего самоутверждения. Благодаря этим предпосылкам система «Европа-Россия» в своей динамике оказывается «призакрытой» системой второго порядка с циклическим функционированием, ритмы которого накладываются на собственные тренды Европы.
Ибо вполне очевидно, что циклы системы «Европа-Россия» при большой событийной изоморфности протекают с неодинаковой скоростью, то убыстряясь, то замедляясь. Более всего растянут цикл I (1726–1905), охватывая 180 лет. Второй предельно спрессован (1905–1939), причем, в его развертывании отдельные фазы наползают друг на друга и перекрываются. В нем ходы С и D едва обозначаются.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: