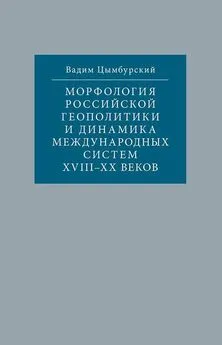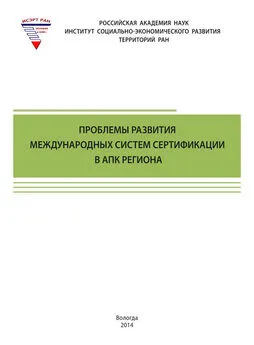Вадим Цымбурский - Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков
- Название:Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Книжный мир
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8041-0839-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Цымбурский - Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков краткое содержание
Своей центральной задачей автор поставил пересмотр традиционных представлений о России как геополитическом субъекте, существующем в парадигме западничества и славянофильства.
В.Л. Цымбурский, исходя из разработанной им концепции, описывает циклы взаимодействия Европы – России – Азии и дает прогноз дальнейшего развития событий на территории евразийского континента.
Книга будет интересна научным работникам, аспирантам, студентам и всем интересующимся историей и практикой геополитики.
Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Связь концепции СВЦ с работами И. Бибо и Г. Ферреро всего лишь предположительна, да и переоценивать ее, даже если она действительно существует, ни в коем случае не резон. В то же время, склонность Цымбурского к использованию в своих метаисторических штудиях циклической парадигмы имеет абсолютно прямые источники и аналоги в творчестве О. Шпенглера.
Согласно Цымбурскому, аппарат его теории стратегических циклов позволяет представить внешнеполитическую историю России в XVIII-XX вв. в виде матрицы, где каждая строчка изображает последовательность сменяющихся ходов в каком-либо из трех выделявшихся мыслителем циклов. В диссертации он писал о таблице, в столбцах которой размещаются их событийно и геоидеологически изоморфные фазы. Так, эпохе 1726–1811 гг. в других двух циклах соответствуют участие России в Антанте и время действия пакта Молотова-Риббентропа. По словам мыслителя, «матрица стратегических циклов создает реальную основу для сравнительного анализа идей, проектов, доктрин, головокружительно контрастирующих по способам их подачи и обоснования сообразно с антуражем эпох и предпочтениями авторов, но обнаруживающих гомологичность с точки зрения их места в протекании циклов – независимо от того, совершалось ли это протекание под знаком Третьего Рима или Третьего Интернационала. Такая матрица несет в себе новую исследовательскую программу для политической и философской науки, давая и той, и другой в руки методологический инструмент, при помощи которого воссоздается историческая морфология российской геополитической мысли». Но это же прямая перекличка – естественно, по формам, идеям и их возможному воплощению, со знаменитыми таблицами морфологии истории из первого тома шпенглеровского «Заката Европы», в которых сравниваются «одновременные» культурные, религиозные, политические и другие явления, принадлежащие различным эпохам и обществам, разделенным тысячами километров географического пространства! [81]
Благодаря этому поразительному и красноречивейшему примеру Цымбурского можно называть не только «русским Хантингтоном», но и, в известных отношениях, «русским Шпенглером».
Россию доимперского периода XVI-XVII вв. Цымбурский рассматривает в соответствии с моделями Ф.М. Достоевского и И.С. Аксакова как остров, восставший из окраинных, азиатских, тюрко-монгольских пространств, – остров, который поднялся над этими пространствами и установил над ними цивилизационную сакральную вертикаль. Таким образом, цивилизация как таковая трактуется мыслителем как надстройка над тем или иным этнокультурным базисом, имеющим свою конкретную географию. Цивилизация на каждом из этих базисов может быть не одна, ее можно и поменять. Гораздо труднее сменить этнокультурную основу, вовсе невозможно – географическую. С последним следует согласиться, но с мнением, что цивилизация – надстройка, сходная со сменной кассетой бритвенного прибора, солидаризироваться мне лично сложно.
В представлении о природе цивилизаций у Цымбурского преобладает геополитический в его собственном понимании, т.е. проективно-конструктивистский подход, в каком-то смысле родственный подходу И.В. Мичурина и Т.Д. Лысенко к растениеводству.
На мой взгляд, цивилизационная принадлежность для каждого человеческого сообщества, располагающегося в конкретном географическом пространстве, так же неизменна, как расово-генетическая принадлежность отдельно взятого индивида. Можно, ценой огромных затрат, высветлить свою кожу (привет Майклу Джексону), но это не сделает вас представителем того антропологического типа, под который вы хотите подделаться. Вместо этого вы станете чем-то вроде «белой вороны», разбалансируете свой организм, разрушите его врожденные защитные механизмы и умрете намного раньше своих не столь эксцентричных сверстников [82].
Не являясь сторонником сугубо «религиозной» маркировки цивилизаций, я признаю важность для каждой из них духовно-идеологических стержней, которые Цымбурский называл «сакральными вертикалями», однако горячо отстаиваю именно «географический» характер цивилизационного самоопределения.
Для меня цивилизации суть геокультурные сообщества, возникшие и функционирующие в рамках того или иного из примерно десятка существующих на нашей планете «месторазвитий» – «географических индивидов». Данные сообщества проходят несколько формационных (поколенческих) циклов, каждый из которых длится два – два с половиной тысячелетия. При этом глубоко трансформируется их культура, в том числе религиозная ее составляющая, но цивилизационная идентичность таких сообществ (в отличие от их собственно культурной, этнической и других идентичностей) остается прежней. Так, например, как были Франция – частью европейской цивилизации, провинция Хубей – частью восточноазиатской, Персида – афразийской, Раджастан – южноазиатской, степи между Уралом и Волгой – российско-евразийской цивилизаций в античную эру, – так они и остались частями соответствующих культурно-исторических миров в эпоху современной формации, которая пришла на место античной в V-VII вв. н.э. Цивилизационную идентичность можно назвать макроидентичностью – в отличие от различного рода мезо– и микроидентичностей.
Иными словами, никакой смены цивилизаций на землях Евразии, вошедших в XVI-XVII столетиях в «российский проект», не произошло; Цымбурский и сам пишет об «окраинных, тюрко-монгольских, азиатских пространствах», т.е. о лимбовых и лимитрофных землях, цивилизационная идентичность которых в большей или же меньшей степени спорна и размыта, а также о поясе «внутреннего лимитрофа» нашего культурно-исторического мира. В этот период для них наступил лишь новый этап нынешнего формационного цикла, тогда как цивилизационная принадлежность этих регионов осталась прежней.
Постулируя существование в XVIII-XX веках европейско-российского тандема, Цымбурский рассматривал Россию как элемент этой ритмически пульсирующей системы – цивилизацию-спутник западного сообщества. Второй ее элемент – собственно европейский мир с его, по выражению этого интеллектуала, «имманентной глубинной биполярностью».
По мнению мыслителя, в отношениях России и Запада этого периода обнаруживается тип цикличности, не имеющий прямых аналогов не только в истории прочих мировых регионов, но и в собственно российской истории вплоть до первой четверти XVIII в., когда, согласно Цымбурскому, данная цикличность сложилась. С его точки зрения, переход при Иване IV от завоевания приволжских татарских царств к Ливонской войне, история Смутного времени и преодоления оного никак не вписываются в обрисованную им пятиходовую фабулу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: