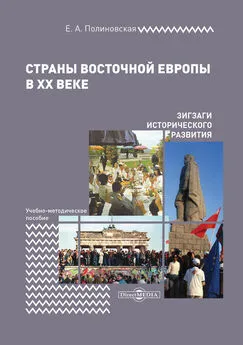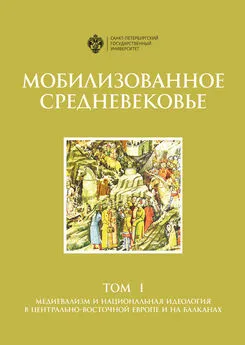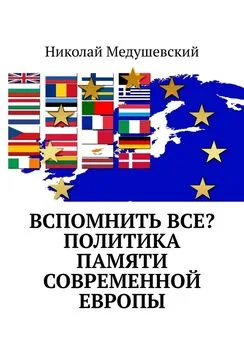Евгения Лёзина - ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы
- Название:ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1582-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Лёзина - ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы краткое содержание
ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Отвечая на вопрос, «каким образом процессы дальнейшего расширения демократии, идущие в обществе, отражаются на работе» руководимого им ведомства, Чебриков подчеркнул, что в деятельности органов госбезопасности большое значение «имеет сегодня профилактическая работа, главное назначение которой — своевременное предотвращение государственных преступлений и иных затрагивающих интересы государственной безопасности антиобщественных действий». По мнению Чебрикова, профилактика, «как ни одна другая форма чекистской деятельности, наиболее полно отвечает духу происходящей в стране демократизации» [1112].
В октябре 1988 года Чебрикова на посту председателя Комитета сменил Владимир Крючков, многолетний начальник ПГУ (внешняя разведка), а бывший председатель был назначен на пост секретаря ЦК КПСС курировать административные и правоохранительные органы, включая органы госбезопасности. До 20 сентября 1989 года Чебриков также был председателем Комиссии ЦК КПСС по вопросам правовой политики [1113]. В этом качестве он стал инициатором нескольких репрессивных указов, подписанных Горбачевым, в частности указа от 8 апреля 1989 года, ужесточавшего наказание за «антигосударственные преступления» [1114].
Новый председатель КГБ Владимир Крючков (1988–1991), избранный в октябре 1989 года членом Политбюро, тоже сохранял верность чекистским принципам и риторике. В августе 1989 года одиозное 5‐е Управление КГБ было переименовано в Управление по защите конституционного строя (Управление «З»), что сопровождалось пропагандистской кампанией, знаменующей разрыв с прошлыми целями и методами работы. Однако в записке с обоснованием необходимости переименования Крючков докладывал в ЦК КПСС, что «спецслужбы и подрывные центры противника» пытаются «инспирировать очаги общественной напряженности, антисоциалистические проявления и массовые беспорядки, подстрекать враждебные элементы к действиям, направленным на насильственное свержение советской власти» [1115]. Таким образом, несмотря на переименование, основные задачи управления фактически остались прежними, а штатная численность сотрудников в ходе реорганизации практически не изменилась. Да и руководить Управлением «З» оставили прежнего начальника «пятерки» генерал-лейтенанта госбезопасности Евгения Иванова [1116].
В период председательства Крючкова Комитет участвовал в силовом подавлении массовых акций протеста в апреле 1989 года в Грузии и в январе 1991 года в Литве, приведшем к гибели нескольких десятков человек [1117].
По инициативе Крючкова в мае 1991 года был принят закон «Об органах государственной безопасности в СССР», в разработке которого руководство КГБ приняло непосредственное участие [1118]. Закон гарантировал Комитету практически полную независимость от советского политического руководства, сохранял его структуру и полномочия, предоставлял ему полный контроль над любыми документами, касающимися государственной безопасности. Закон был поддержан Комитетом Верховного Совета по вопросам безопасности и обороны, находившимся под контролем КГБ и состоявшим главным образом из чекистов [1119].
Таким образом, тайная политическая полиция успешно адаптировалась к меняющимся условиям, не изменяя при этом основных целей своей деятельности и не снижая своей активности [1120]. При этом Комитет принялся улучшать свой имидж, ради чего 22 апреля 1990 года был создан Центр общественных связей КГБ СССР (на основе бывшего Пресс-бюро с существенным расширением его штата и структуры) [1121]. Одним из новых пропагандистских приемов стал усилившийся акцент на борьбе с преступностью и «экономическим саботажем»: в декабре 1990 года для решения этих задач в КГБ было образовано отдельное Управление по борьбе с организованной преступностью (Управление «ОП») [1122].
По словам бывшего генерал-майора госбезопасности Олега Калугина, отправленного в 1990 году в отставку за критику спецслужб, Комитет остался неприкасаемым в сравнении с другими силовыми ведомствами: «И через пять лет перестройки КГБ — государство в государстве, орган, наделенный колоссальной властью, теоретически способный подмять под себя любое правительство. В его руках правительственная связь, погранвойска, разведка, контрразведка и военная контрразведка, следственные подразделения, масса технических служб. Комитет практически имеет собственную, хоть и специализированную армию: военно-строительные войска, пограничные войска плюс войска правительственной связи. Председатель КГБ остается членом Политбюро, а это значит, что и после отмены 6‐й статьи Конституции верхушка компартии была и остается главным и эксклюзивным потребителем информации, которой располагают органы» [1123].
Реорганизация КГБ СССР после августовского путча 1991 года
Поводом для существенных преобразований структур госбезопасности стала попытка государственного переворота, предпринятая высокопоставленными должностными лицами, создавшими 19 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью не допустить намеченное на 20 августа подписание договора о Союзе Суверенных Государств [1124]. Председатель КГБ Крючков был одним из главных организаторов путча, в подготовке к которому принимало участие немало сотрудников Комитета [1125].
После провала путча, ареста Крючкова и других бывших членов ГКЧП (все они обвинялись в «измене родине» по статье 64 УК РСФСР, но были амнистированы в феврале 1994 года) [1126]23 августа главой КГБ был назначен Вадим Бакатин — бывший первый секретарь Кировского (1985–1987) и Кемеровского обкомов КПСС (1987–1988), а позднее — министр внутренних дел СССР (1988–1990). Бакатину было поручено начать реорганизацию и расформирование системы госбезопасности [1127].
Хотя новый руководитель Комитета вполне осознавал угрозы, которые подчиненное ему ведомство представляло для общества, он отказался и от существенной структурной трансформации, и от кадровой чистки или люстрации в его рядах. «Я не считал и не считаю сейчас возможным для нас реформирование КГБ по радикальному — германскому или чехословацкому пути, то есть полное упразднение, а потом новое создание. Не разгонять, а реформировать. Вот, если можно так выразиться, то гуманное направление, которое я избрал», — писал Бакатин в 1992 году в своей книге с многообещающим названием «Избавление от КГБ» [1128].
Основными принципами бакатинских реформ стали дезинтеграция, децентрализация и деидеологизация. Дезинтеграция предполагала «раздробление КГБ на ряд самостоятельных ведомств и лишение его монополии на все виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности: разорвать Комитет на части, которые, находясь в прямом подчинении главе государства, уравновешивали бы друг друга, конкурировали друг с другом» [1129]. Децентрализация, согласно замыслу Бакатина, заключалась в «предоставлении полной самостоятельности республиканским органам безопасности в сочетании с главным образом координирующей и в относительно небольшой степени оперативной работой межреспубликанских структур» [1130]. При этом Бакатин отдавал себе отчет, что достижение этой цели определялось не столько его волей, сколько начавшимися процессами дезинтеграции Союза. Третье направление реорганизации по Бакатину — деидеологизация КГБ. «Традиции чекизма надо искоренить, чекизм как идеология должен перестать существовать. Мы должны руководствоваться законом, а не идеологией», — провозглашал новый глава Комитета [1131]. Однако оставалось неясным, как он рассчитывал добиться этой цели без кардинальной реформы самого репрессивного советского института. В начале 1992 года, подводя итоги своей деятельности уже после ухода из органов госбезопасности, Бакатин писал: «Успехов не было достигнуто. Я не считаю, что спецслужбы уже стали безопасными для граждан. Нет законов, нет контроля и нет профессиональных внутренних служб безопасности» [1132].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



![Фрэнсис Дворник - Центральная и Восточная Европа в Средние века [История возникновения славянских государств] [litres]](/books/1060850/frensis-dvornik-centralnaya-i-vostochnaya-evropa-v-s.webp)