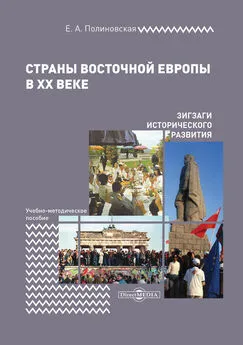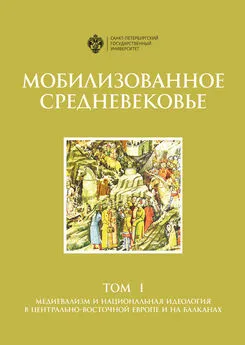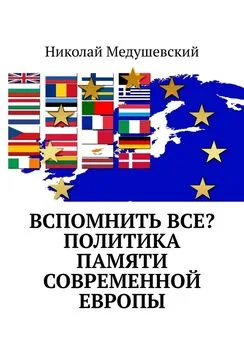Евгения Лёзина - ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы
- Название:ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1582-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Лёзина - ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы краткое содержание
ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Решение президента объединить спецслужбы в Министерство безопасности и внутренних дел вызвало бурную общественную критику, поскольку предложенная структура слишком напоминала зловещий сталинский Наркомат внутренних дел (НКВД), объединявший в себе органы госбезопасности и внутренних дел под руководством Лаврентия Берии [1157]. Этим решением были недовольны и сами чекисты, усмотревшие в нем ущемление своих ведомственных интересов и прав [1158]. В результате указ Ельцина от 19 декабря 1991 года был оспорен в Конституционном суде России и 14 января 1992 года и был признан противоречащим Конституции. Постановление Конституционного суда послужило созданию двух отдельных ведомств — Министерства внутренних дел РФ под руководством Виктора Ерина и Министерства безопасности во главе с Виктором Баранниковым (1991–1993) [1159].
Итак, образованное 24 января 1992 года Министерство безопасности (МБ) стало главным и самым крупным преемником КГБ [1160]. Всего, по подсчетам историка спецслужб Майкла Уоллера, в МБ вошло не менее 17 крупных подразделений Комитета, в том числе «ответственных за контрразведку, охрану границ, военную контрразведку и контрразведку МВД, хранение ядерного оружия, безопасность метрополитена, железных дорог, судоходства, государственной авиакомпании „Аэрофлот“, экономическую и промышленную безопасность, противодействие организованной преступности, борьбу с наркотиками, наружное наблюдение, охрану бункеров и большинства правительственных зданий, анализ, военное строительство, технические лаборатории, перехват почты, архивы, прослушивание телефонных разговоров, расследования и обучение» [1161]. Также Министерство безопасности «отвечало за мониторинг государственного, кооперативного и частного бизнеса в транспортном, промышленном и коммуникационном секторах <���…> мониторинг средств массовой информации, анализ социальных и политических вопросов и защиту патентов» [1162]. Как уточнял Уоллер, «единственными важными обязанностями бывшего КГБ, которых не хватало МБ, были иностранная разведка, шифры, связь и президентская охрана» [1163]. Численность министерства достигала 135 тыс. сотрудников, из которых около 50 тыс. были заняты непосредственно в контрразведке [1164].
Кадровая преемственность Министерства безопасности с советским КГБ была практически абсолютной. Хотя приближенный к Ельцину министр безопасности Баранников был выходцем из МВД, все его заместители и начальники отделов МБ являлись кадровыми чекистами [1165].
Как и руководители позднесоветского КГБ, Баранников сделал акцент на борьбе с преступностью, ставшей, по словам Уоллера, «частью имиджевых усилий по обеспечению органов госбезопасности понятным смыслом существования, а также политическим инструментом, с помощью которого можно было уничтожать противников внутри и вне правительства» [1166].
В 1992–1993 годах с подачи Баранникова и при одобрении Ельцина был принят пакет законов, регулирующих деятельность спецслужб. Действуя в том же стиле, что и председатель КГБ Крючков в 1991 году, министр безопасности требовал от Верховного Совета скорейшего принятия подготовленных им законопроектов. Как и в 1991 году, инициатива была фактически «проштампована» Комитетом по вопросам обороны и безопасности Верховного Совета, во главе которого тогда находился Сергей Степашин, одновременно занимавший в 1991–1993 годах посты заместителя (позднее — первого заместителя) министра безопасности РФ, а вскоре назначенный руководить всей госбезопасностью [1167].
В пакет Ельцина–Баранникова входили закон «Об оперативно-розыскной деятельности», «О безопасности», «О федеральных органах государственной безопасности», «О внешней разведке», «О государственной тайне» и «О государственной границе РФ». Их отличительными чертами стала широта полномочий, предоставляемых спецслужбам, и жесткий контроль над ними, гарантированный исключительно президенту. При этом возможности общественного и парламентского контроля были крайне ограниченны [1168].
Принятый в апреле 1992 года закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предоставлял право на проведение оперативно-следственных действий целым пяти ведомствам: органам Министерства внутренних дел, Министерства безопасности и пограничной охраны, Службе внешней разведки и оперативным подразделениям Главного управления охраны (§ 11) [1169]. Спустя несколько месяцев такое право было предоставлено еще и оперативным подразделениям Главного управления налоговых расследований при Государственной налоговой службе РФ и региональным подразделениям при налоговых инспекциях [1170]. Одна из статей закона объявляла государственной тайной «сведения о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность на конфиденциальной основе» (§ 16).
Вступивший же в силу в июле 1992 года закон «О федеральных органах государственной безопасности» оказался практически неотличим от закона, принятого в 1991 году по инициативе КГБ: некоторые формулировки в двух текстах совпадали буквально дословно. Разделы закона, описывающие права и обязанности федеральных органов госбезопасности, наделяли российские спецслужбы функциями, мало отличавшимися от функций советской тайной полиции [1171]. В частности, закон сохранял за ними право «прикомандировать военнослужащих федеральных органов государственной безопасности» «к органам государственной власти и управления, министерствам, государственным комитетам и ведомствам, предприятиям, учреждениям и организациям» в целях решения задач обеспечения безопасности (§ 11) [1172]. Прикомандированные сотрудники — аналог офицеров действующего резерва КГБ — могли беспрепятственно работать «под прикрытием» в органах госвласти, в медиа, на промышленных предприятиях, в политических объединениях и любых других структурах [1173]. Так и не прерванная в постсоветский период практика «прикомандирования» кадров госбезопасности в государственные, общественные и коммерческие структуры с целью негласного контроля над ними обрела законную базу и новый стимул к расширению [1174]. Для сравнения отметим, что в Восточной Германии в период трансформации именно эта категория бывших офицеров Штази подлежала увольнению в первую очередь [1175].
По вновь принятому закону секретные службы могли «обеспечивать безопасность» проводимых на территории России «общественно-политических и религиозных мероприятий федерального, межгосударственного и международного характера», что открывало простор для расширительных толкований (§ 12 (л)). Для обеспечения государственной безопасности при стихийных бедствиях и массовых беспорядках, при пресечении некоторых преступлений спецслужбы наделялись правом «беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности». Единственным условием таких проникновений была необходимость уведомлять о них прокурора в течение 24 часов (§ 13 (е)) [1176]. Принимая во внимание неподконтрольность секретных служб и особенности российской правоприменительной практики, данная норма закона, по мнению специалистов, грозила значительными злоупотреблениями [1177].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



![Фрэнсис Дворник - Центральная и Восточная Европа в Средние века [История возникновения славянских государств] [litres]](/books/1060850/frensis-dvornik-centralnaya-i-vostochnaya-evropa-v-s.webp)