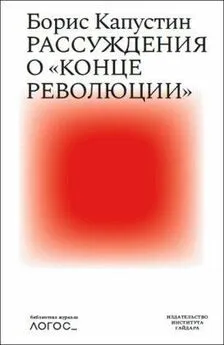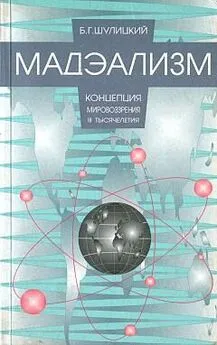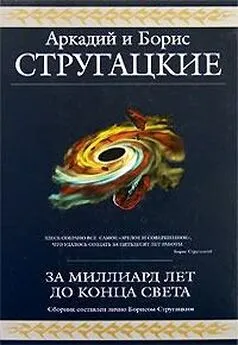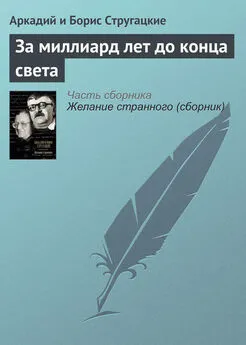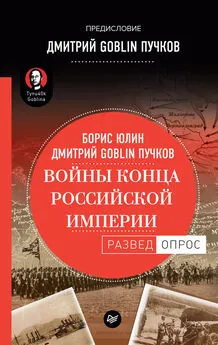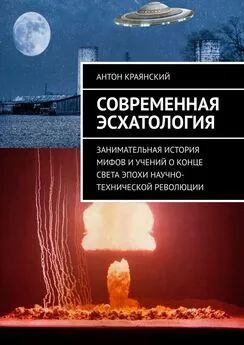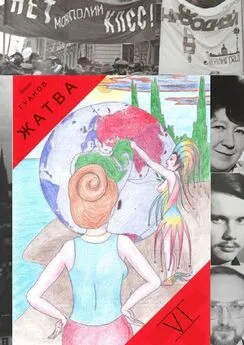Борис Капустин - Рассуждения о «конце революции»
- Название:Рассуждения о «конце революции»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:978-5-93255-558-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Капустин - Рассуждения о «конце революции» краткое содержание
Рассуждения о «конце революции» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Погасить революцию в качестве события прошлого, растворить ее в чем-то ином, скажем, в несостоявшейся и несостоятельной попытке прервать «органически» развивающуюся традицию есть, вероятно, самый эффективный способ сделать прививку против революции [21] Миссия «правильных» или «славных» революций, как они трактуются консервативной мыслью, заключается именно в том, что они восстанавливают традицию после ее злокозненных разрывов «неправильными» революциями. Революция как возврат , как «консервация и исправление» (порушенной «части старой конституции») – это то, в чем Берк видит главное отличие и главное преимущество Английской революции (в смысле Реставрации 1660 года и «Славной революции» 1688–1689 годов) в сравнении с Французской революцией. См.: Берк, Эдмунд. Размышления о революции во Франции . Москва: Рудомино, 1993, с. 27. Отметим попутно, что современное российское консервативное отвержение Октября (вместе с Февралем) не может повторить эту берковскую операцию различения «правильных» и «неправильных» революций и потому вынуждено представить любую революцию как «губительную». Это, с одной стороны, является свидетельством отсталости отечественного консервативного мышления, а с другой стороны, признанием отсутствия – даже на уровне культурного воображения – той «органической» традиции, которая вообще поддается реставрации и «обратному склеиванию» после ее прерывания «губительными» революционными событиями. Говоря прямолинейно, 1991 год невозможно представить в качестве российской «славной революции», восстанавливающей традицию, порушенную Февралем и Октябрем.
. Но в условиях Современности, уже прошедшей горнило Просвещения (как и разочарования в нем) и великих революций, уже преобразовавших наш мир и неизгладимо отпечатавшихся на нем, такой способ делать антиреволюционные прививки в целом не работает [22] Хотя кое-кто продолжает экспериментировать и с этим способом делать антиреволюционную прививку. Так, А. Дворниченко заключает свою монографию следующим выводом: в России «никогда не было революций и, видимо, уже не будет». У нас возможен только «изрядно потасканный бунт». «Волею судеб (?) Россия оказалась именно в числе тех стран, где революции невозможны» (Дворниченко, А. Ю. Прощание с революцией . Москва: Весь Мир, 2018, с. 269).
. Нужны другой способ и другая прививка.
В версии Франсуа Фюре это – «завершение революции», в отношении которой очевидно то, что она не просто оставила глубокий след в нашей истории – она есть сама эта история . Поэтому от революции нельзя дистанцироваться, нельзя рассматривать ее как бы с внешней по отношению к ней позиции. Но можно диссоциировать себя от нее, можно ослабить спонтанность и императивность соотнесения себя с событиями и действующими лицами революции. Для этого нужно осознать противоречия между «мифом революции» и действительностью того общества, которое через нее прошло, а также мутации и «недостоверность» самого исторического знания, которое привязывает нас к ней и делает ее релевантной для нас [23] См.: Фюре, Франсуа. Постижение Французской революции . Санкт-Петербург: ИНАПРЕСС, 1998, с. 20.
. «Завершение революции» только это и может означать, и только таким способом ее можно «завершить». Если воспользоваться понятиями Майкла Оукшотта, то можно сказать, что такое «завершение революции» означает ее перевод из «практического прошлого», которое действенно влияет на настоящее и будущее, в «историческое прошлое», которое известно «только по книгам» и такого влияния на настоящее и будущее не имеет [24] См.: Oakeshott, Michael. Experience and Its Modes . Cambridge: Cambridge University Press, 1966, p. 103.
.
В той мере, в какой революция, как считал Вальтер Беньямин, совершается «от имени поколений поверженных» и «питается образом порабощенных предков, а не идеалом освобожденных внуков» [25] Беньямин, Вальтер. «О понятии истории», в: Вальтер Беньямин. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения . Москва: РГГУ, 2012, с. 245.
, данный способ производства прививки против революции обещает быть эффективным. И он широко применяется на деле. Во время помпезных празднований двухсотлетия Французской революции, организованных, разумеется, государством (поскольку эта революция была, есть и будет оставаться «основополагающим моментом» той традиции, в контекст которой вписывает себя и которой себя легитимирует современное французское либерально-демократическое государство), тогдашний премьер-министр Мишель Рокар, социалист, что примечательно, назидательно заметил: «Среди множества следствий великой Революции есть одно особой важности. Оно заключается в убежденности многих людей в том, что Революция опасна и что совсем неплохо, если удается обойтись без нее» [26] Цит. по: Haynes, Mike and Jim Wolfrays (eds). History and Revolution: Refuting Revisionism. London: Verso, 2007, p. 13.
. Важнейшая импликация этой сентенции состоит в том, что, во‐первых, в революции самой по себе нет ценности, скажем, в качестве акта свободы угнетенных, сколь бы скоротечным такой акт ни был, или в качестве (беньяминовского) акта искупления «поверженных и порабощенных предков» и, во‐вторых, революция есть лишь инструмент достижения каких-то иных целей, будто бы предписанных «логикой истории» (прогрессом), что бы под ней ни понималось. При такой оптике, в самом деле, несложно показать, что революция является слишком дорогостоящим («опасным») для общества инструментом, что его эффективность весьма сомнительна и что он вообще вряд ли необходим для прогресса (многие страны, действительно, обходились без него) [27] Есть немало достоверных свидетельств того, что революции скорее замедляли, чем ускоряли, экономическое развитие, что им не удалось существенно воздействовать (особенно – в долговременной перспективе) на показатели социально-экономического неравенства, что самые угнетенные и маргинализированные слои населения в наименьшей мере выигрывали от них, что властные структуры, создаваемые революциями, нередко оказывались не менее, а то и более «деспотическими», чем те, которым они приходили на смену, что в качестве средств общественных преобразований революции есть исключения, а не правило и что многие страны, действительно, обошлись без них на их путях к «современному обществу». См., к примеру: Kelley, Jonathan and Herbert S. Klein. «Revolution and the Rebirth of Inequality: A T h eory of Stratification in Post-Revolutionary Society», American Journal of Sociology , 1977, Vol. 83, No. 1, p. 78–99; Weede, Erich and Edward N. Muller. «Consequences of Revolutions», Rationality and Society , 1997, Vol. 9, No. 3, p. 327–350; Zimmermann, Ekkart. «On the Outcomes of Revolutions: Some Preliminary Considerations», Sociological Theory , 1990, Vol. 8, No. 1, p. 33–47; McPhee, Peter. Living the French Revolution, 1789–1799 . New York: Palgrave Macmillan, 2006, p. 202–227; Runciman, W. G. «Unnecessary Revolution: T h e Case of France», European Journal of Sociology , 1983, Vol. 24, No. 2, p. 291–318; Мур, Баррингтон. Социальные истоки диктатуры и демократии . Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016, с. 392.
. Возможно, это академик Чубарьян и имел в виду под «уроками», которые нам нужно извлечь из опыта нашей революции.
Интервал:
Закладка: