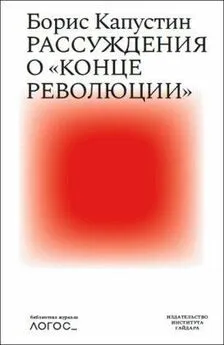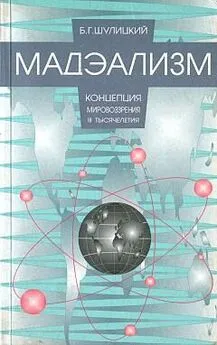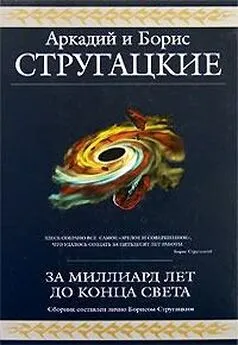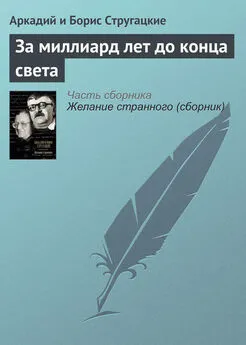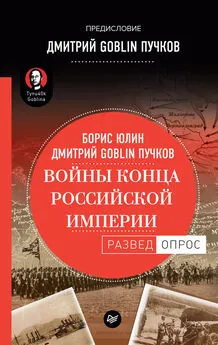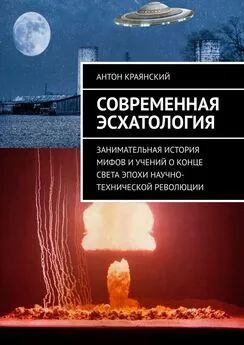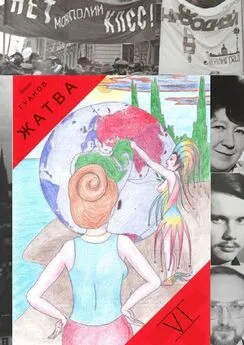Борис Капустин - Рассуждения о «конце революции»
- Название:Рассуждения о «конце революции»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:978-5-93255-558-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Капустин - Рассуждения о «конце революции» краткое содержание
Рассуждения о «конце революции» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но и этой второй прививки против революции по методу Фюре, усиленной всем негативом историко-социологических наблюдений над революциями, может не хватить [28] Это признавал и сам Фюре. Уже в посмертно опубликованной книге он допускает, что «Октябрь и Ленин вернутся снова» и что только Сталин будет ликвидирован и оставлен в прошлом. См. Furet, François. Lies, Passions, and Illusions . Chicago: University of Chicago Press, 2014, p. 33.
. В самом деле, фундаментальная независимость будущего от наших стремлений и желаний (допустим, «антиреволюционных»), не говоря уже о его независимости от наших знаний (скажем, о негативных сторонах всех имевших место в прошлом революций), – это то, что не может игнорировать хотя бы мало-мальски серьезное историческое мышление, не готовое к самоубийству в совсем уж примитивном рационализме. Вряд ли оно может допустить какой-либо иной способ присутствия «разума» в истории, помимо «хитрости разума», предполагающей уже «не веру в потаенную направляющую длань разума, которая обеспечивает то, что все очевидные случайности неразумия неким образом внесут свою лепту в гармонию тотальности Разума, а, напротив, доверие к не-Разумию, уверенность в том, что, сколь бы хорошо ни планировались наши дела, что-то все равно пойдет не так» [29] 11. Žižek, Slavoj. «T h e Cunning of Reason: Lacan as a Reader of Hegel», Harvard Review of Philosophy , 2009, Vol. 16, No. 1, p. 107.
.
Поэтому для прививки против революции нужно более сильное средство, чем «уроки», извлекаемые из прошлого, или интеллектуально-нравственная – в духе Фюре – диссоциация от революционного прошлого. Нужно закрыть от революции будущее . Собственно философскими и историческими методами сделать это довольно сложно: они не могут обойти то обстоятельство, что вся темпоральная организация Современности зависит от наличия «открытого будущего» [30] См.: Хабермас, Юрген. Философский дискурс о модерне . Москва: Весь Мир, 2008, с. 12; Koselleck, Reinhart. The Practice of Conceptual History . Stanford, CA: Stanford University Press, 2002, р. 120, 165.
, которое – в его отличии от пролонгированного в будущее настоящего – и обеспечивается возможностями революционных разрывов «хода истории». Поэтому философии и истории трудно закрыть глаза на то, что революция для Современности – не одно из частных явлений в ряду многих других, а то особенное, которое выступает всеобщим определением Современности, задающим уникальные для нее ритм и темпоральность. В этом смысле – и к данной теме мы еще вернемся в дальнейшем – Современность не только начинается с революций, но является революционной по своему существу и перестает быть Современностью в той мере и постольку, в какой и поскольку это существо утрачивается [31] В современной литературе тема «закрытия будущего» (в контексте новейшего капитализма и его глобальных эффектов) представлена очень широко. В рамках настоящей книги я не могу позволить себе даже беглый обзор ее, и мне приходится ограничиться ссылкой на концепцию «презентизма» Франсуа Артога. «Презентизм» – это формирующийся на наших глазах «режим историчности». Он идет на смену «футуризму» как «классическому» для Современности «режиму историчности», и его суть состоит в том, что мы «заключены только в настоящем и ограничены тем, как настоящее видит самое себя» (Hartog, François. Regimes of Temporality: Presentism and Experiences of Time . New York: Columbia University Press, 2017, р. 197). В свете этого встает огромный вопрос о том, чтó именно происходит с Современностью, чей режим темпоральности меняется столь радикально. Не архаизируется ли она в модальности фатума со всеми его атрибутами неизбежности и предопределенности? До последнего времени довольно-таки стандартным ходом теорий Современности (и характерного для нее мировоззрения) было ее противопоставление фатуму и фатальности (см., например: Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age . Stanford, CA: Stanford University Press, 1991, р. 28). Ныне же фатум и фатальность стали входить уже и в «строго научные» социологические описания механизмов и тенденций современного общества, вследствие чего сам термин «современное общество» стал признаваться «нелегитимным эвфемизмом» (см.: Ofef, Claus. «T h e Utopia of the Zero Option: Modernity and Modernization as Normative Political Criteria», in Claus Ofef. Modernity and the State: East, West . Cambridge, MA: T h e MIT Press, 1996, р. 16).
. Поэтому на долю социальных наук, в первую очередь социологии и политологии, выпало создание третьего способа производства прививки против революции, а именно обоснование с помощью аргументов институционального и процессуального рода невозможности революции в будущем . Совокупность таких аргументов я и называю «тезисом о конце революции», и именно его рассмотрению посвящена данная книга. При этом, конечно, следует иметь в виду, что этот тезис не существует в изоляции от той общей политической, духовной и академической среды, которая создана серией очень чувствительных поражений левых в последней трети XX века и до последнего времени казавшимся безоговорочным глобальным триумфом неолиберального капитализма. Более того, этот тезис можно рассматривать в качестве специфической социологической и политологической артикуляции общего «прощания с революцией», в котором есть мощные философские и исторические составляющие.
О «тезисе о конце революции» в целом
Кнастоящему времени представление о том, что в современном мире революция «кончилась», стало чем-то вроде «здравого смысла опубликованных мнений» [32] См.: Wolf, Frieder Otot. «Revolution Today: T h ree Reflections», in Ralph Miliband, Leo Panitch, John Saville (eds.). Socialist Register 1989 . London: Merlin Press, 1989, р. 229.
. Юрген Хабермас весьма точно уловил и выразил лейтмотив этого «здравого смысла»: «Я не думаю, что в обществах с такой степенью сложности [как наши] возможны революции какого-либо типа; в любом случае, мы не можем повернуть вспять, вопреки всяческим контрдвижениям. Для ученых же революции являются понятием девятнадцатого века» [33] Habermas, Jürgen. «Concluding Remarks», in Craig Calhoun (ed.). Habermas and the Public Sphere . Cambridge, MA: T h e MIT Press, 1992, р. 469.
. «Конец революции», конечно же, не является открытием последнего времени или поражающим своей новизной заявлением. Уже вскоре после великих революций, приведших в движение «политическую Современность» [34] Горан Терборн, вероятно, прав в том, что разные составляющие Современности – научная, художественная, экономическая, политическая и т. д. – имеют разные истоки и разные исторические траектории своего развития (находясь при этом во взаимодействии друг с другом). То, что обычно понимается под «великими революциями», непосредственно дало толчок развитию именно «политической современности». См. Te h rborn, Göran. «Forward. Roads to Modernity: Revolutionary and Other», in John Foran, David Lane, Andreja Zivkovic (eds.). Revolutions in the Making of the Modern World: Social Identities, Globalization, and Modernity . London: Routledge, 2008, p. xvi-xvii.
, революция как таковая была объявлена «законченной» и отослана в область прошлого. Французские «доктринеры» и Алексис де Токвиль с его предсказанием о том, что по мере прогресса демократии революции станут все более редкими [35] См.: Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке . Москва: Прогресс, 1992, с. 459 и далее.
, Гегель с его эпитафией Французской революции и видением «конца истории», возвещенном постнаполеоновской эпохой (а в версии Александра Кожева – уже Йенской битвой 1806 года [36] См.: Кожев, Александр. Введение в чтение Гегеля . Санкт-Петербург: Наука, 2003, с. 216, 218.
), и Сен-Симон с его призывом немедленно положить конец революции [37] См.: Saint-Simon, Henri de. «Considerations On Measures to Be Taken to End the Revolution», in Henri de Saint-Simon. Selected Writings on Science, Industry and Social Organisation. London: Croom Helm, 1975.
– это лишь несколько примеров «прощания с революцией» мыслителей, отнюдь не принадлежавших к лагерю махровой реакции, уже в первые десятилетия XIX века [38] 7. Разумеется, в то время, как и всегда впоследствии, звучали другие голоса. Фридрих Шлегель емко выразил дух раннего немецкого романтизма, заявив: «революция есть ключ ко всей современной истории». Schlegel, Friedrich, «Essay on the Concept of Republicanism», in Frederick C. Beiser (ed.). The Early Political Writings of the German Romanticism. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 164.
. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, как это сделал Крейн Бринтон, что XIX век в целом верил в то, что «ему вот-вот удастся устранить тот вид внутренней, или гражданской, войны, которую мы ассоциируем с революцией, и в самом деле сделать революцию ненужной» [39] Brinton, Crane, The Anatomy of Revolution . New York: Vintage, 1965, р. 5.
.
Интервал:
Закладка: