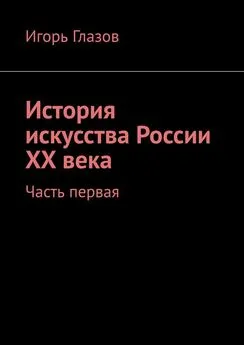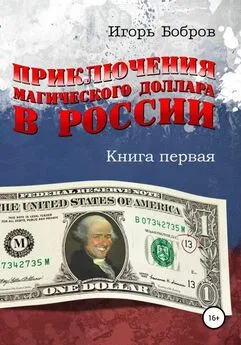Игорь Глазов - История искусства России ХХ века. Часть первая
- Название:История искусства России ХХ века. Часть первая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005164988
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Глазов - История искусства России ХХ века. Часть первая краткое содержание
История искусства России ХХ века. Часть первая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эта характеристика коллективного или социального самосознания образованного слоя России позволяет соотнести внутреннее содержание личности с миром культуры. Важная роль искусства в данном случае состоит в формировании отношения, эмоциональной оценки эталонов и стереотипов, актуальных для данной исторической общности. Переживание, вызванное художником у зрителей, становится одним из аспектов внутренней формы художественного произведения. Его возникновение связано с образным характером художественного языка, поиск которого становится одной из главных задач для живописи ХХ века. Появление в 1909 году журнала «Аполлон» знаменовало, по мысли его создателей, «протест против бесформенных дерзаний творчества, забывшего законы культурной преемственности». 30 30 Ред. Вступление.// Аполлон. 1909. №1. С. 3
В программной статье «Пути классицизма в искусстве», Л. Бакст очерчивает всю художественную проблематику своего времени. Он пишет: «Итак, будущее искусство идёт к новой, простейшей форме; но для того, чтобы эта форма получила значительность, чтобы она оказалась синтезом частичных исканий художников, необходимо откинуть массу деталей от её реального прообраза. Если это условие не соблюдено, если вдохновение художника не основывается на реальной форме, тогда нет подлинности и серьезности в его пластическом вымысле, мы не верим его картине». 31 31 Бакст Л. Пути классицизма в искусстве. //Аполлон. №2. 1909. С.72
Л. Бакст так определял принцип неоклассицизма: «…принцип Милле, чисто пластический, искание прекрасного силуэта в связи с отказом черпать вдохновение в уже найденных совершеннейших образцах человеческого гения, остался принципом новой классической школы. Этой школе надлежит быть предтечей будущей живописи!» 32 32 Бакст Л. Пути классицизма в искусстве. //Аполлон. №2. 1909. С.71
Примирить эти противоборствующие начала можно было, только обратившись к развитому языку символов и образов, которым и стал язык классики, в котором «вместо туманного многословия символистов – сжатая точность новой школы, вместо темной торжественности – ясная простота, вместо абстракции мифотворчества – конкретные слова почти разговорной речи». 33 33 Жирмунский В. М. Поэтика русской поэзии. СПб.: Азбука-классика, 2001. С. 68—87
Неоклассицизм в живописи связан с деятельностью художников круга мастерской Кардовского. После возвращения в Россию, в 1903 году Д. Кардовский начал преподавать рисунок в мастерской Е. Репина, а в 1906 году возглавил собственную мастерскую. В художественной практике, также как и в эстетике, начало ХХ века характеризуется утратой академической школой господствующего положения и появлением большого количества направлений, течений, объединений. Разнообразие творческих подходов приводило к утрате связи между художником и публикой. Стремление восстановить эту связь путем создания эмоционально-пластического образа, способного выразить тему произведения, составляло одну из главных задач, которые ставили перед собой художники классического направления начала ХХ века. Н. Радлов писал: «…будущее искусство должно стать искусством картины… Только тогда современность найдет место в искусстве и только этим путем может возобновиться связь между художником и публикой» 34 34 Радлов Н. Будущая школа живописи // Аполлон. 1915. №1. С. 14—23
. Характер этой связи раскрывает Л. И. Пумпянский 35 35 Пумпянский Л. И. Путь к примирению художественных распрей.//Аполлон 1917. №2—3. С.23—49
, он утверждает, что искусство делается общепонятным благодаря тому, что представляют собой язык. Художник, начиная работу над картиной, свободен в выборе «слов» или «форм» этого языка, но раз выбрав, вынужден следовать их логике. Логика этого языка связана с постоянством пластических элементов, из которых он состоит. Изменить законы, диктующиеся бытием художественных форм, художник не может, он может ими только пренебречь. В то же время, поскольку эти элементы создаются «привычным единообразием данной культуры», то они поддаются изменению, составляя своего рода «грамматику» языка. В ходе работы над картиной он руководствуется объективными законами – как в построении формы, обращаясь к «реальному миру вещей», так и содержательно – через отношение к «идеальному миру разума», стремясь создать произведение, в котором оба эти основания пришли бы к объективному совершенству. Таким образом, художественный язык представляет собой эстетически определенную образную структуру, наделяющую формы и отношения между ними знаковыми функциями, которые обуславливают установление специфических правил структурирования и осмысления действительности. Программу мастерской изложил в статье «Будущая живопись» Н. Радлов: «Искусство настолько сильное, чтобы соприкоснуться с современностью, оправдать своей формой всю нехудожественность злободневности, может вырасти только на прочном основании, на основании глубокого знания формы… В этом смысле им [молодым художникам] могла быть полезна только мастерская проф. Кардовского, преимущества которой отнюдь не в ее «свежести», как принято указывать в критических разборах конкурсных выставок, а именно в охранении до-импрессионистических традиций. Педагогика нашей Академии – историческая нелепость. Школа, долженствующая быть хранительницей формальных достижений искусства, представлена художниками, порвавшими с традициями ради возможности выражения своих новых настроений. Но надежды на возрождение искусства картины заставляют нас мечтать о возможности новой Академии, как мастерской, образованной цехом мастеров для обучения «подмастерий» тонким тайнам их ремесла…». 36 36 Радлов Н. Э.. Будущая школа живописи // Аполлон. 1915. №1. С. 14—23
Природа этого нового синтеза, однако, не была до конца осознана. Так Н. Радлов писал: «Только художник, владеющий формой, сумеет оживить ее идеей. … но пусть даже он не вложит в свою картину никакой идеи, создаст организм, лишенный мысли. Само по себе это целое, сотворенное для вмещения идеи, может быть прекрасным. Мы почувствуем целесообразность организма, хотя и не знаем цели». 37 37 Радлов Н. Э. Цех Святого Луки// Аполлон. 1917. №8—10. С. 61—79
Хотя неоклассицисты принципиально не рассматривали вопрос содержания произведения, ограничиваясь чисто формальным принципом мастерства, по косвенным признакам можно сделать заключение об имплицитном характере тех идей, оформлением которых должна была служить пластическая форма. Среди членов объединения «Мир искусства», многие придерживались социалистически взглядов. Еще во время первой революции Е. Лансере писал к А. Бенуа: «Я не понимаю твой страх перед социализмом. Раньше всего оно неизбежно. Потом оно несокрушимо в силу своего требования справедливости. Уж мечту о лучшем будущем у рабочего из души не вырвешь. И в то же время сила его будет все время увеличиваться. Конечно, я не верю в близость социалистической республики, но и не вижу, почему она должна быть «тоскливейшей», почему мы обязаны ненавидеть царство демократии? Ведь уже и теперь искусство живо не аристократией, не миллионерами; правда, они кое-что покупают, но в общем, это так случайно, так ничтожно, что разве возможно это противопоставить чувству возмущающей душу несправедливости. А эпоха дворцов, садов и вообще царской пышности великолепия, конечно, уже и теперь прошла безвозвратно. Наоборот, вся молодость, вся жизнеспособность, все надежды, весь энтузиазм на стороне левых. И поэтому, т.е. для того, чтобы в будущем искусство заняло должное место, нужно теперь протянуть руку людям будущего и вместе строить». 38 38 Гомберг-Вержбинская. Русское искусство и революция 1905. С 113
Классическое понимание формы приводит к характерным для эстетизма представлениям о стиле: стиль требует совершенной формы выражения. Существует единственный способ выражения внутреннего видения, и, поскольку прекрасное связано с чувственно воспринимаемой формой, то содержание становится ценным только при помощи гармоничной формы. Очевидно, что обращение к эстетическому чувству или «вкусу» не могло служить достаточным основанием для сложения стиля. Действительно, хотя деятельность «Мира Искусства» принято связывать с появлением неоклассицизма, это объединение, не смотря на декларации, не смогло выработать достаточно ясную программу нового направления. Н. Э. Радлов, анализируя обещанное Миром искусства» обновление художественной жизни, отмечает, что за пятнадцать лет существования многие художники, входящие в него достигли успеха и признания. В связи с этим, он задается вопросом о художественных принципах этого объединения. Обратив внимание на отсутствие признанных авторитетов среди художников прошлого и настоящего, а также весьма разнородный характер состава художников, входящих в «Мир искусства» он находит, что их объединяло только неприятие передвижничества и «академической рутины», а основным достижением стало воспитание вкуса публики. Он заключает: «Но найдет ли будущий историк какое-нибудь основание для того, чтобы говорить о «новом течении» «Мир искусства» и о принципах этого течения? Мне думается – вряд ли». 39 39 Радлов Н. Э. О футуризме и Мире искусства // Аполлон. 1917. №1. С. 2—17
В свою очередь, Радлов определяет два начала в искусстве живописи аналитическое или синтетическое. Художник-аналитик смотрит на изображаемое явление «наивно, как бы глазами человека, впервые увидевшего; свое впечатление от природы, свободное в известном смысле от знания и опыта, он будет разлагать на линии и пятна, – он будет слушать только то, что говорит ему природа и переводить ее слова на свой язык» 40 40 Радлов Н. Э. Современная русская графика и рисунок // Аполлон. 1913. №6. С. 5—12.
. И далее: «Если художник – аналитик и выбирает, если он предпочитает одно явление другому, то не потому, что он видит в нем что-нибудь объективно более значительное, а только потому, что данное явление может дать больший простор проявлению его взглядов на природу. Только большей или меньшей трудностью изображения обуславливается больший или меньший интерес к данному явлению, а для этого необходимо, чтобы художник забывал о содержании его, чтобы он воспринимал мир, как равноценное во всех своих частях, органически связанное целое» 41 41 Радлов Н. Э. Современная русская графика и рисунок // Аполлон. 1913. №7. С. 5—19.
. Принесение содержания в жертву оригинальности приводит к утверждению крайних форм индивидуализма в искусстве. Признавая значение индивидуальности, как необходимого элемента творческого процесса, Радлов указывает, что единственная связь между художником и зрителем возможна только через произведение. Отсюда он определяет цель искусства в создании картины. Картина представляет собой соединение двух элементов – художественной формы и оформляемого ей содержания. В импрессионизме художественная форма подчинена впечатлению, что приводит к этюдности, незавершенности картины. Другой крайностью становится кубизм, в котором плоскость холста диктует отношение к форме. Содержание может быть полностью воплощено только тогда, когда художник овладеет представлением пространственной формы на плоскости. Отказ от ясного содержания в футуризме с одной стороны и анекдотичность тем у передвижников с другой приводит к мысли о необходимости обращения к академизму для создания пластически осмысленной формы, понятной для восприятия. Проблема академической школы состоит в том, что творческий процесс в ней схематизируется таким образом, что «найдя и определив идею [картины], такое упадочное искусство с необходимостью почти логического вывода указывает и форму, как простейшее и полнейшее выражение этой идеи, и материал как наиболее целесообразное решение формы». 42 42 Радлов Н. Э. Цех Святого Луки// Аполлон. 1917. №8—10. С. 61—79
Конкретность этой схемы терпит крушение при столкновении с индивидуальностью художника, имеющего свое представление о красоте формы. Для решения вопроса художественной форме как носительнице определенного содержания, Радлов обращается к трудам Г. Вельфлина и А. Гильдебранда. Процесс построения формы трехмерного предмета на плоскости происходит благодаря двум способам восприятия, которыми может пользоваться художник: плоскостное, проекционное восприятие формы и пространственное восприятие изображения. Плоскостное восприятие формы характерно для импрессионизма, оно обладает декоративной ценностью, но характеризуется случайностью полученного изображения. Создание подлинной изобразительной формы, способной вместить идейное содержание и стать основой картины возможно только при использовании «академического» метода, основанного на пространственном восприятии. Радлов так описывает процесс построения «изобразительной формы: «для изображения ее я прослеживаю абсолютную связь частей независимо от их случайных положений в проекции. Для меня не существует линий; они являются только границами формы, так сказать результатом ее; я не вижу пятен, ибо то, что я называю пятном – только тональное определение формы в пространстве». 43 43 Радлов Н. Э. Цех Святого Луки// Аполлон. 1917. №8—10. С. 61—79
Архитектоничность построения изобразительной формы, описанная Радловым, требует последовательного перевода эмпирически воспринимаемой формы предмета в форму художественного представления, которая есть вывод из сравнения видов явлений, очищенный мышлением художника от всего случайного. Этот подход к изобразительности приводит к утверждению необходимости стилевой определенности. Радлов пишет: «Но художник может подходить к природе вооруженный всем своим знанием, всем опытом – тогда его воля не подчиняется впечатлению, но выбирает и отвергает; между творцом и природой возникает как бы третий элемент – стиль…». 44 44 Радлов Н. Э. Современная русская графика и рисунок // Аполлон. 1913. №6. С. 5—12.
Этот стиль должен появиться как результат школы, что позволит художнику, свободно владея формой оправдать «нехудожественность злободневности».
Интервал:
Закладка: