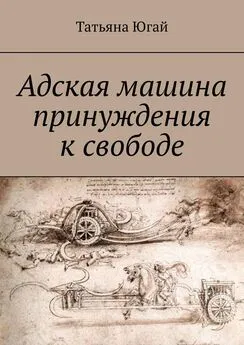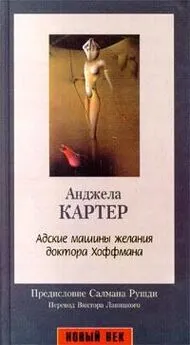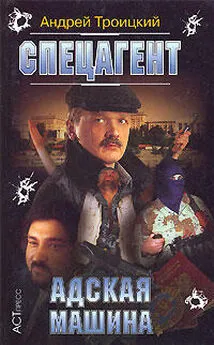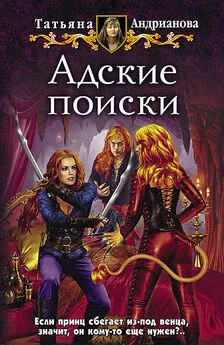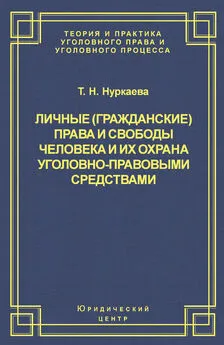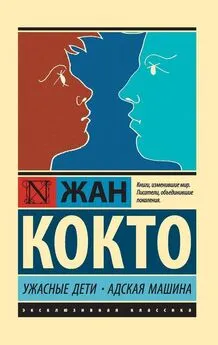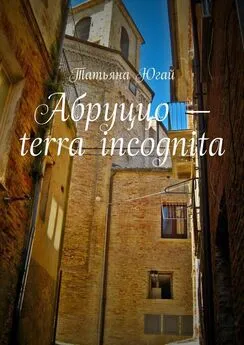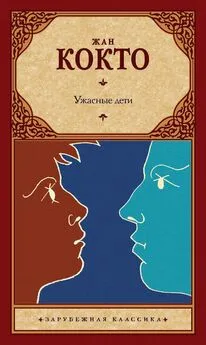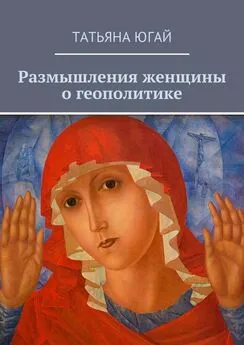Татьяна Югай - Адская машина принуждения к свободе
- Название:Адская машина принуждения к свободе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005101440
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Югай - Адская машина принуждения к свободе краткое содержание
Адская машина принуждения к свободе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Оказывается, все не так безнадежно! Существует все-таки хранилище этого знания и, конечно, это рынок. «Рынок – это единственный доступный способ получать информацию, позволяющую индивидам судить о сравнительных преимуществах того или иного употребления ресурсов, о которых у них имеется непосредственное знание и, используя которые они, независимо от своих намерений, служат потребностям далеких, не знакомых им людей. Рассеянность этого знания представляет собой его сущностную характеристику, и его невозможно собрать вместе и вручить властям, вменив им в обязанность создание продуманного порядка» [55, c.136].
В дальнейшем становится ясно, зачем Хайек придумал неуклюжую конструкцию «спонтанный расширенный человеческий порядок». Естественно, для того, чтобы нанести смертельный удар или уже контрольный выстрел по социализму, поскольку, как он торжествующе заметил, уже «стал очевиден экономический провал восточноевропейского социализма» [55, c. 148—149]. Он видит историческое преимущество капитализма, пардон, спонтанного порядка, в способности обработки рассеянной информации. «Выгоды от этих рыночных механизмов настолько превосходили любые ожидания, что объяснить их действие можно было только ретроспективно, анализируя сам процесс их спонтанного формирования. И, когда это было сделано, обнаружилось, что децентрализованный контроль над ресурсами, контроль посредством индивидуализированной собственности, приводит к выработке и использованию большего количества информации, чем это возможно при централизованном управлении» [55, c.151].
В заключение Хайек применяет свой новый концептуальный инструментарий к социальной проблематике. Он делает очередное чистосердечное признание, что «принимаясь за работу над книгой, я дал себе зарок никогда не употреблять слов „общество“ (society) или „социальный“ (social)». В мире вечных спонтанных ценностей такая мелочь, как социальная справедливость выглядит сущей нелепицей, суетой сует. «Вся идея распределительной справедливости – каждый индивид должен получать соответственно своему нравственному достоинству – при расширенном порядке человеческого сотрудничества (или каталлаксии) бессмысленна, поскольку размеры имеющегося продукта (и даже его наличие) обусловлены, в общем-то, нравственно нейтральным способом распределения его частей… Любая расширенная система сотрудничества должна постоянно приспосабливаться к изменениям внешней среды (включая жизнь, здоровье и физическую силу сотрудничающих); и смешно требовать, чтобы происходили изменения исключительно со справедливыми последствиями» [55, c. 189, 203—204].
2.5. Русофобская ветвь неолиберализма
Умом – Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Федор Тютчев (1866)
Свой краткий экскурс в историю неолиберальной доктрины завершаю обзором труда Ричарда Пайпса «Собственность и свобода». Строго говоря, Пайпс – не экономист, а историк, сделавший себя имя и карьеру на оголтелой русофобии. Однако его последний крупный опус представляет ревизию экономической истории собственности с неолиберальных позиций. Причем, будучи историком, он сделал это гораздо более обстоятельно и наукообразно, чем профессиональные неолиберальные экономисты. Признаться, я прочитала эту книгу с интересом. Биография Пайпса типична для неолиберала и по-своему примечательна. Он родился в 1923 году в Цешине (Польша); умер в 2018 году в Кембридже. В 1939 году его семья бежала из оккупированной нацистами Польши в США. В 1950 году он защитил диссертацию в Гарвардском университете. Диссертация, посвященная теории большевизма, стала основой первой книги «Формирование Советского Союза: коммунизм и национализм, 1917—1923» (1954).
Параллельно с типично академической биографией развивалась довольно успешная политическая карьера. Наибольшую известность на политическом поле Пайпс снискал, как руководитель «Команды Б», созданной вновь назначенным директором ЦРУ Джорджем Бушем по указанию президента Джеральда Форда. Как он пишет в «Мемуарах непримкнувшего», «подоплека дела состояла в следующем: уже некоторое время мнения разведывательного сообщества расходились по поводу цели ядерного строительства в СССР в 1970-е гг., а именно – создания новых поколений как стратегических, так и тактических ракет. В соответствии с доктриной гарантированного взаимного уничтожения (ГВУ), признаваемой аксиомой как учеными, так и разведкой, ядерное оружие не имело практической пользы и служило только для сдерживания ядерной угрозы. Совершенно секретный меморандум ЦРУ в апреле 1972 г. под заголовком „Советская оборонная политика в 1962—1972 гг.“ утверждал, что советское руководство также разделяет взгляды этой доктрины, хотя ни одного аргумента в защиту этого тезиса приведено не было… Следовательно, как только был достигнут уровень сдерживания, достаточный, по оценке министра обороны Роберта Макнамары, для уничтожения 25 процентов населения и 50 процентов промышленности агрессора, дальнейшее развертывание вооружений было бы не только бесполезным, но опасно провокационным» [41, c.212—213].
Был проведен «эксперимент в виде „конкурентного анализа“, в ходе которого шесть групп экспертов – три из ЦРУ (команда А) и три, сформированные из независимых экспертов (команда Б), – должны были независимо друг от друга оценить информацию по трем направлениям, которые вызывали наибольшую тревогу и были спорными аспектами советских военных усилий: противовоздушная оборона, точность ракет и стратегические цели» [41, c.214—215]. Итоговый доклад «Команды Б», представленный в декабре 1976 г., состоял из трех частей. В первой части, подготовленной самим Пайпсом, «предыдущие стратегические оценки ЦРУ были подвергнуты методологической критике». Вторая часть состояла из анализа десяти советских систем вооружения. Последняя часть содержала выводы и рекомендации. «Общий вывод заключался в том, что оценки ЦРУ „существенно искажали мотивацию советских стратегических программ“ и как следствие „имели последовательную тенденцию недооценивать их интенсивность, размах и скрытую угрозу“» [41, c.218].
Примечательно, что такой поворот вызвал обеспокоенность и критику не только со стороны ЦРУ, которое отстаивало честь мундира, но и Особого комитета по разведке Сената США. Последний подготовил доклад, в котором, по словам самого Пайпса, «обвинял Команду Б в превышении полномочий, утверждал, что она не использовала „сырую информацию“, „сговорилась“ с Президентским консультативным советом по внешней разведке о подборе персонала и о выводах и даже – что сделала выводы до начала своей работы». Пайпс пишет, что «Киссинджер отверг доклад Команды Б как „стремящийся саботировать новый договор по ограничению вооружений“ и призвал к „рациональной дискуссии по вопросу о ядерной стратегии“, подразумевая, видимо, такую дискуссию, которая подтвердила бы его собственную точку зрения, согласно которой иррациональным было стремление к ядерному превосходству» [41, c.221—223]. После того как холодная война закончилась, ЦРУ провело проверку результатов работы «Команды Б». Все они оказались ошибочными. В первую очередь, это касалось кардинальных расхождений с действительностью количества бомбардировщиков и ядерных ракет. Более того, уже после краха СССР, оценка Командой Б советских военных расходов в 12—13% ВНП была признана абсурдно завышенной самими же американцами [57, c. 8—9].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: