Знание-сила, 2008 № 09 (975)
- Название:Знание-сила, 2008 № 09 (975)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 2008 № 09 (975) краткое содержание
Знание-сила, 2008 № 09 (975) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но и эту политхарактеристику я не принял всерьез — уж слишком обижен был Пятигорский на судьбу и на Лифшица.
Понадобилось третье мнение, чтобы я вернулся к первым двум. В 1998 году в американском Бостоне я беседовал с Ласло Тиссой — одним из первых аспирантов Ландау и единственным иностранцем среди них. Из Харькова — и СССР — ему удалось выбраться летом 1937 года и больше никогда он не видел Ландау. О таких очевидцах историк мечтает — конкретная точная память, без наложения более поздних (российских) событий.
Тисса не поверил в реальность антисталинской листовки Ландау—Кореца, зато помог разглядеть неправдоподобные обстоятельства разгрома Харьковского Физтеха и «антисоветской забастовки» учеников Ландау в Харьковском университете. Нет, Ландау и его мальчики-теоретики вовсе не были антисоветчиками. Хотя формально партийным был лишь Пятигорский, все они, начиная с Ландау, верили в социализм и в советскую власть. Все, кроме Жени Лифшица. Но это нисколько не мешало им собираться чаще всего именно у Жени дома. Для них физика была гораздо важнее политики, а дом Жени был самым просторным.
Поскольку Тисса с явной симпатией относился к Лифшицу, я наконец зарегистрировал странный факт: Евгений Лифшиц еще до 1937 года имел свое особое — глубоко отрицательное — мнение о советском строе. Факт очень редкий для того поколения советских физиков и факт очень странный на фоне просоветского пыла Ландау вплоть до 1936 года.
И тут от политики вернемся к науке и к уникально успешному соавторству Ландау и Лифшица. Ведь если на Лифшица не действовал просоветский пыл обожаемого учителя, значит, он был вполне самостоятелен в своем мышлении?
Неудивительное единство учителя и ученика в научном стиле позволяло думать, что для самостоятельности тут и не остается места. Что это не так, показывает история первого тома Курса. Рассказывая свою версию этой истории, Пятигорский ничего не сказал мне о рецензии одного из сильнейших советских теоретиков Владимира Фока на первое издание «Механики» Ландау и Пятигорского. Обстоятельный критический разбор кончался сурово: «Приходится удивляться тому, как мог такой крупный ученый, каким, несомненно, является один из соавторов — проф. Ландау, написать книгу с таким большим количеством грубых ошибок. <> Мы надеемся увидеть книгу во втором издании исправленной и основательно переработанной». Это и сделал Евгений Лифшиц, что наглядно иллюстрирует важность его роли в создании Курса. Общая концепция Ландау требовала самостоятельного и критического воплощения. Остались свидетельства о горячих спорах соавторов, а чтобы спорить с Ландау, требовалась незаурядная сила духа и самостоятельность мышления. По свидетельству Абрикосова, Ландау говорил о Лифшице: «Женька — великий писатель: он не может написать то, чего не понимает». Сочетание принципиального единомыслия с самостоятельностью определило успех главного совместного дела Ландау и Лифшица — в создании Курса.
Теперь от теоретической физики перейдем к практической ее истории.
Можно понять, насколько легче стало на душе у Лифшица после того, как Ландау с помощью советской власти сделал свое антисоветское открытие в 1937 году. Однако об их новом политическом единомыслии знали (кроме, быть может, компетентных органов) лишь самые близкие люди. А люди неблизкие видели холодную настороженность Лифшица и не догадывались, что «застегнутость на все пуговицы» предохраняла его от непрошенного вторжения в свои антисоветские мысли и чувства. То, что с самой ранней юности Женя Лифшиц ощущал себя чуждым советской мифологии, «овладевшей массами», сказалось на его манере общения с первыми встречными. А те, кто, подобно мне когда-то, не догадывался о глубинных причинах такой его закрытости, могли строить совсем иные — «злокачественные» — гипотезы.
Похоронив свою занозистую гипотезу о причастности Бронштейна к Курсу — и получив урок поспешной пристрастности, я неспешно вчитался в уцелевшую рукопись книги Бронштейна — Ландау 1937 года. И понял то, что мог бы понять раньше, если бы не слишком доверял своей гипотезе. В рукописи обнаружились места, несовместимые со стилем Ландафшица. А ведь я обдумывал различие научных стилей Ландау и Бронштейна. Вполне ощутимое это различие нисколько не мешало их взаимному интересу друг к другу и плодотворности их дружбы. Пока я не знаю точного ответа на вопрос, как имя Ландау попало на титульный лист рукописи Бронштейна. Могу предположить, что так Бронштейн отметил вклад Ландау в основную концепцию построения книги.
Говорят, что стиль — это личность, хотя относят это обычно лишь к литературному стилю. В русской литературе даже великий Пушкин это не «наше все», осталось место и для Достоевского, и для Гоголя, и даже для некоторых членов Союза советских писателей. В физике тоже хватает места для различных стилей, и само стилевое разнообразие важно для жизни науки. Великий учитель физики Ландау не был универсально наилучшим учителем — таких просто не бывает. Для некоторых выдающихся физиков он был бы неподходящим учителем. К примеру, для Андрея Сахарова. И Виталий Гинзбург, считая Ландау своим учителем, рад, что тот не был его первым учителем, — иначе он мог вообще не состояться как теоретик. Книги Ландау—Лифшица — гораздо более универсальные и даже незаменимые «учителя», но и они не делают лишними все другие книги по физике. Уникальный успех Курса основан и на стилевом соответствии его соавторов. На этом же основывалось их необыкновенно близкое и долгое сотрудничество, которое заслуживает внимательных и беспристрастных размышлений.
Таких размышлений не меньше заслуживает живое многообразие стилей и разномыслие личностей, уцелевших вопреки однообразному единомыслию, которое советская власть много лет старалась ввести в России.
Надеюсь, что беспристрастным размышлениям поможет изложенный выше урок пристрастности одного отдельно взятого историка науки — вместе со свидетельствами, собранными в этой книге.
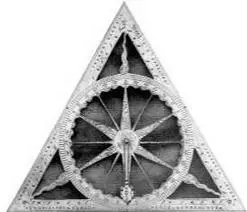
Календарь «З-С»: сентябрь
55 лет назад, 1 сентября 1953 года, общемосковским митингом трудящихся торжественно открылся новый комплекс зданий Московского университета на Ленинских (ныне Воробьевых) горах, включавший 60 отдельных корпусов рабочей площадью 220 тысяч квадратных метров, площадь 14 старых зданий университета на Моховой составляла всего 35 тысяч квадратных метров.
155 лет назад, 2 сентября 1853 года, родился Вильгельм Оствальд, немецкий химик, в 1909 году удостоенный Нобелевской премии «в знак признания проделанной им работы по катализу, а также за исследования основных принципов управления химическими реакциями».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










