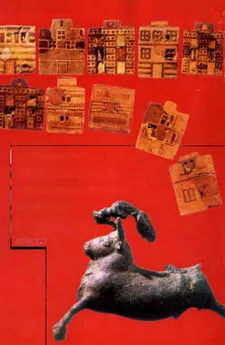Знание-сила, 2005 № 07 (937)
- Название:Знание-сила, 2005 № 07 (937)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 2005 № 07 (937) краткое содержание
Знание-сила, 2005 № 07 (937) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Михаил Аркадьевич как получилось, что вы, работая в Москве, стали нередко бывать и в подмосковной Дубне?
— Что называется, «так сошлись звезды». С одной стороны, была случайная встреча лет шесть-семь назад в двухместном купе «Красной стрелы». Поезд еще не тронулся, а мой попутчик уже начал расспрашивать, кто я, чем занимаюсь. Я представился ему и стал рассказывать о своих научных интересах — про механизмы и фотохимию процессов зрения, про то, что зрительная клетка сетчатки глаза — это естественный фотоумножитель, усиливающий ответ клетки на поглощение одного кванта света в миллион раз, и разные другие любопытные вещи.
Через некоторое время и он мне представился: академик Дмитрий Васильевич Ширков, физик-теоретик из Дубны. Физиология глаза ему была интересна, как, впрочем, она всегда интересовала физиков. Мы проговорили до двух часов ночи и даже договорились, что я приеду с лекцией в лабораторию теоретической физики ОИЯИ, что вскоре и случилось.
Совершенно независимо от первой встречи произошла вторая. Спустя два года я участвовал в симпозиуме по радиобиологии в Брукхейвене (США). В Шереметьево перед отлетом я познакомился с профессором Евгением Александровичем Красавиным из ОИЯИ, который также летел на этот симпозиум. После того как мы оба выступили с научными докладами. возникший еще в самолете взаимный интерес усилился. А рассказывал я тогда о влиянии дейтронов на зрительный пигмент родопсин и сетчатку глаза. Эта работа была выполнена нами совместно с физиками НИИ ядерной физики МГУ и Института медико-биологических проблем РАН.
На время работы симпозиума нас поселили в роскошной гостинице недалеко от Брукхейвена — это был знаменитый на всю Америку гольф-клуб. Мыс Евгением Александровичем вечерами, после заседаний, подолгу гуляли по огромному парку, и тогда-то он и сказал: «Михаил Аркадьевич! Уж если где искать тяжелые частицы, так это в ОИЯ И». Таким образом, именно Евгений Александрович Красавин предложил мне продолжить эти эксперименты в Дубне.
Спустя пару месяцев уже в Москве независимо от встреч с Д.В. (Цирковым и Е.А. Красавиным познакомился я и с директором ОИЯ И В. Г Кадышевским. Это случилось на банкете в Академии наук по случаю избрания новых членов Академии, действительным членом которой в тот раз стал и Владимир Георгиевич. Ему очень понравилась идея моей работы в Дубне, тем более что у руководства ОИЯ И мысль о развитии биологических исследований в Институте уже возникла. Познакомил же нас вице-президент РАН Николай Альфредович Плата, который сказал тогда: «Это замечательно, биологии нужна новая кровь!» — и, можно сказать, официально благословил наш союз со стороны Российской Академии наук.
— Тем не менее, можно сказать, что биологией в Дубне занимались практически всегда, а в 1977 году в ОИЯ И было открыто Отделение радиационных и радиобиологических исследований...
— Конечно, биология в Дубне началась не с Островского. Экспериментальная биология здесь началась давно, а с приходом Е. А. Красавина, блестящего специалиста по радиационному мутагенезу, стала активно развиваться. Можно смело сказать: биология в Дубне была с самого начала, поскольку задачи радиационной зашиты появились вместе с возникновением ОИЯИ.
Я хочу специально подчеркнуть, что сотрудничество физиков и биологов имеет давнюю историю. Еще в «сороковые, роковые», если вспомнить знаменитые строки Давида Самойлова, когда начались гонения на генетиков, менделистов-морганистов, «мощные» физики протянули руку помощи биологам, прикрыли их. Здесь можно вспомнить много замечательных имен. По инициативе И.В. Курчатова, А.П. Александрова и И.Е. Тамма в Институте атомной энергии был создан радиобиологический отдел, где предложили работать группе биохимической генетики Р.Б. Хесина. В те же годы великий Н.Н. Семенов пригласил в свой Институт химической физики замечательного генетика И.А. Рапопорта, создал лабораторию биофизики Л.А Блюменфельда.
Дубна не была исключением. В 1967 году именно в Дубне и благодаря помощи физиков ОИЯИ была проведена первая в СССР школа по молекулярной биологии. Решающая роль в ее организации, насколько я знаю, принадлежала академикам А.С. Спирину и Б.К. Вайнштейну, профессору О.Б. Птицыну. Я, тогда еще кандидат наук, был приглашенным лектором той первой школы. Помню, как, безумно волнуясь, я гулял вечером перед лекцией по набережной Волги. Эта дубненская лекция в моей научной биографии сыграла огромную роль. Традиция проведения этих школ продолжалась долгие годы. Их значение для развития современных биологических исследований в России трудно переоценить.
И сегодня Дубна остается привлекательной для умных и прогрессивных биологов, понимающих, как можно использовать ее потрясающие установки для решения конкретных биологических задач. Например, один из наших ведущих молекулярных биологов академик А.С. Спирин и его коллеги давно сотрудничают с профессором В.Л. Аксеновым и его сотрудниками. Используя уникальные возможности импульсного реактора ИБР-2 и комплекса измерительной аппаратуры, они получают замечательные результаты по структуре рибосом — внутриклеточных частиц, ответственных за синтез белков.
— Михаил Аркадьевич, наверное, пора подробнее представить вас читателям...
— По образованию я «чистый» биолог, более того — физиолог. Окончил кафедру физиологии биофака МГУ, которой заведовал Хачатур Сергеевич Коштоянц, биологам это имя говорит о многом. Я считаю себя учеником и последователем его научной школы. Это был прогрессивный ученый, эволюционист. Двухтомник Коштоянца по сравнительной физиологии — фундаментальный труд, изданный в пятидесятых годах, остается до сих пор настольной книгой для биологов.

В экспедиции на Баренцевом море я, студент второго курса, сделал свою первую научную работу по актиниям — беспозвоночным животным, которые, будучи хищниками, внешне очень похожи на цветы; их еще иногда называют «морские хризантемы». И я очень горжусь, что картинка из моей студенческой работы по актиниям вошла во второй том коштоянцевской книги. С этого, можно сказать, началась моя научная деятельность. Активно занимался Коштоянц и тем, что мы сейчас называем молекулярной физиологией. Он был увлечен изучением механизмов передачи нервных сигналов с одной нервной клетки на Другую, с нервной клетки на мышечную клетку, в том числе сердце.
В 1946 году (!), когда работы советских ученых вообще не публиковались за рубежом, Х.С. Коштоянц и его ученик Т.М. Турпаев опубликовали в «Nature» статью о существовании рецепторных белков. Работа эта была выполнена на изолированном сердце лягушки — классическом объекте физиологов (вспомните Базарова в «Отцах и детях» Тургенева). Несомненно, это была пионерская, можно сказать, эпохальная работа. Сейчас же это огромная область, «горячая точка» биологии; на современных знаниях о рецепторных белках основана большая часть нынешней фармакологии. Благодаря Коштоянцу я стал физиологом с молекулярным уклоном. Потом я попал в аспирантуру Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР, в замечательную лабораторию профессора В. Г. Самсоновой — верной ученицы и последовательницы Л.А. Орбели. У нее я и защитил кандидатскую диссертацию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: