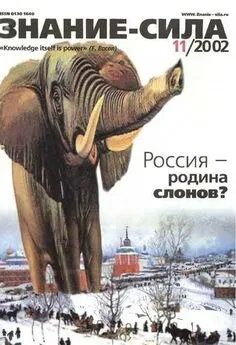Знание-сила, 2002 № 11 (905)
- Название:Знание-сила, 2002 № 11 (905)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2002
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 2002 № 11 (905) краткое содержание
Знание-сила, 2002 № 11 (905) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но какой урок для новой российской историософии и педагогики можно извлечь из опыта А.В. Скобова и Л.А. Кацвы? Какие учебники новейшей Истории древнего Отечества будут наиболее полезны подросткам Информационной эры?
Многим ясно, что одного идеального учебника нет и быть не может. Не только ввиду большой разницы личных характеров и научных пристрастий их авторов и составителей. Ведь сами эти пристрастия и характеры отражают большой глубинный факт: наличие разных фаз в универсальном цикле эволюции самоорганизующихся систем. Первыми эти фазы заметили, конечно, зоологи: эмбриологи, палеонтологи и физиологи XIX века. В XX веке историки, потрясенные Первой мировой войной, тоже заговорили о феномене Циклической Эволюции. Арнольд Тойнби применил эту схему к вековому ритму взлета и упадка цивилизаций. Лев Гумилев заметил сходный ритм в развитии народов, а Игорь Дьяконов пересмотрел в этом свете давнюю модель смены экономических формаций в обществе. Все это брожение умов происходило между Второй мировой войной и Второй российской революцией. Теперь и она миновала; чему научились у нее наши историки и наши учителя?
Видимо, самый важный вывод – это подозрение (или уверенность) в универсальном распространении Четырехтактного Двигателя Эволюции. Первыми его обнаружили физики, нечаянно и давно: в середине XVIII века. Тогда Эйлер и Мопертюи, открыв вариационный Принцип Наименьшего Действия, задались наивным вопросом: для чего Природе нужны четыре разные картины одного Физического Мира? Его можно описывать через Силы и Движения всевозможных тел и частиц: так поступал Ньютон, и ему хватало этих понятий для объяснения всего на свете. Но Лейбниц, конечно, не согласился со своим великим соперником! Он увидел в Природе лишь нескончаемые переходы Энергии из ее потенциальной формы в кинетическую или обратно: чередование этих двух процессов тоже объясняет все на свете.
Скромный старший друг Ньютона – священник, математик и шифровальщик Джон Валлис внес свою лепту в зоопарк физических понятий. Он первый увидел, как закон Сохранения Импульса регулирует любые взаимодействия между телами или частицами в вакууме. Наконец, маркиз Пьер Луи Моро Мопертюи и пасторский сын Леонард Эйлер заметили организующую роль Действия в природе. Эта характеристика (в отличие от силы, энергии или импульса) не имеет мгновенного значения, но она поддается измерению на каждом интервале времени и выделяет небольшое множество наблюдаемых траекторий тел, частиц или систем из огромного ансамбля их возможных движений.
Вот такое разнообразие картин Мира накопили физики к XX веку – прежде чем кто-то из них первый назвал науку Историю неравновесной Физикой Социума. Но социум развивается, поворачиваясь к нам попеременно своими разными гранями; каждая грань подсказывает наблюдателю ОДНУ модель, оптимально описывающую те процессы, которые на ней протекают. Вот и чередуются в каждой эволюционной науке четыре важнейших портрета физического мира: Силовой, Энергетический, Действенный и Импульсный…
А какими моделями пользуются в своих учебниках Леонид Кацва и Александр Скобов? Разными, конечно; выяснить авторские предпочтения легче всего по синхронным и синфазным цитатам. Например, что следует в текстах Л.А. Кацвы и А.В. Скобова после знаменитой фразы матроса- анархиста Железнякова: «Караул устал! Депутатов просят разойтись!»? Заглянем в оба учебника…
Л. Кацва (с. 84): «Второе заседание, назначенное на пять часов вечера, так и не состоялось, поскольку утром 6 января была опубликована резолюция ВЦ И К о роспуске Учредительного собрания.
Разгон первого в российской истории парламента, избранного на основе всеобщего избирательного права, означал откровенное попрание волеизъявления огромного большинства населения страны. По существу, это был акт гражданской войны. Однако всеобщего возмущения не последовало. Лишь в некоторых городах состоялись демонстрации протеста, решительно подавленные большевиками. Сказались и отсутствие прочных традиций парламентской демократии, и разобщенность избирателей, поддержавших на выборах эсеров и кадетов, и просто усталость от войны, нарастающей разрухи и политической неопределенности».
А. Скобов (с. 119): «Председатель Чернов еще пытался доказывать матросу, что в лице Учредительного собрания он имеет дело с «хозяином Земли Русской» – но тот лучше знал, кто здесь хозяин…
Пришедшие 6 января к Таврическому дворцу депутаты нашли на дверях замок. Охрана сказала, что заседания не будет, так как оно запрещено Совнаркомом. А ночью ВЦИК принял по докладу Ленина декрет о роспуске Учредительного собрания. В тот же день переведенные в тюремную больницу депутаты-кадеты Шингарев и Кокошкин были прямо в постелях заколоты штыками пьяных матросов Железнякова. Ленин грозился наказать виновных в самосуде, но дело замяли».
Что видно из этих цитат? Леониду Кацве явно ближе силовая (то есть составленная из Силовых Полей) модель общества, государства и того народа, который их сперва создает, а потом подвергается перевоспитанию с их стороны. Напротив, Александру Скобову важнее поведение отдельных людей и людских коллективов, которое выражается в их поступках – более или менее оригинальных. На языке физиков любой поступок – это квант импульса. Значит, учебник Скобова написан «на импульсном языке Валлиса», а учебник Кацвы – «на силовом языке Ньютона». Таким образом, питерский контрамот Скобов опередил московского контрамота Кацву на один шаг в письменной контрамоции, или на одну эпоху в стихийной эволюции российского общества. Оно и понятно, если сравнить пишущего диссидента с учеником диссидентов…
Каков может быть педагогический эффект этой разницы? Вероятно, по ходу учебы наиболее пассионарные гимназисты предпочтут читатьучебник Скобова. Но при подготовке к вступительным экзаменам эти же пассионарии скорее всего заглянут в учебник Кацвы: ведь их будущие экзаменаторы на разных гуманитарных факультетах почти наверняка не входят в семейство контрамотов!
Так подтверждается давняя поговорка: «Мамы разные нужны, мамы всякие важны». А какие еще возможны (и нужны) «мамы» среди учебников истории? Например, на каком из физических языков написан известный и популярный учебник Льва Гумилева: «От Руси до России»? Потомственный и матерый контрамот Л.Н. Гумилев уделял наибольшее внимание замыслам и деяниям своих собратьев- пассионариев; то есть он рассуждал и писал тексты на действенном языке Эйлера, щедро дополняя этот язык элементами более привычного импульсного диалекта исторической науки.
Гораздо реже и без особого успеха Л.Н. Гумилев пытался сделать еще один шаг вглубь существа дела: перевести свои гипотезы на тот энергетический язык, пионерами которого в исторической науке можно считать Адама Смита, Карла Маркса и Карла Каутского. Казалось бы, этот язык должен быть родным для любого смышленого марксиста, но уж очень жесткому отбору на серость подвергалась эта публика в СССР! Вот и родилась первая книга такого стиля («Пути Истории» И.М. Дьяконова) в последний год советской власти, под пером великого знатока Древнего мира…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: