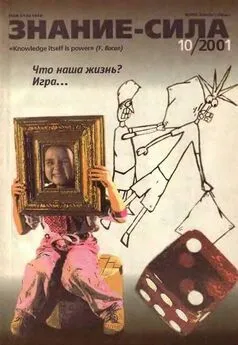Знание-сила, 2001 №10 (892)
- Название:Знание-сила, 2001 №10 (892)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2001
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 2001 №10 (892) краткое содержание
Знание-сила, 2001 №10 (892) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Где твой ваучер?
Продолжаем публиковать беседы с бывшим министром экономики России, известным учены» Евгением Григорьевичем Ясиным об истории российской постсоветской экономики. Разговор ведет корреспондент радио «Эхо Москвы» Ольга Бычкова.

О. Бычкова:– В российских реформах были три ключевые точки: либерализация, финансовая стабилизация и приватизация. О первых двух вы уже говорили, и сейчас переходим к одной из самых острых и скандальных – к приватизации. Конечно, это был один из самых революционных шагов в России, где к началу 90-х никакой частной собственности не было уже несколько десятилетий.
Е. Ясин:– Помните, как в последнем Верховном Совете РСФСР депутат Челноков пытался бить ваучером по лиц}' Чубайса, выражая свое возмущение тем, что российских граждан ограбили? Такое общее убеждение, что действительно ограбили, живо до сих пор, и здесь нужно бы внести некоторую ясность.
Вообще-то реформы у нас начались тогда, когда еще в годы перестройки был принят закон о кооперации и следом – союзный закон об аренде. Каждый из них, по существу, открыл дорогу реальной приватизации. Кооперация породила, на самом деле, частный бизнес, запрещенный в России. Частный бизнес стал расти прежде всего рядом с государственными предприятиями, паразитируя на их ресурсах. Об этом в свое время очень много писали. В открытую купить предприятие еще было нельзя, но захватить его финансовые потоки, сырье, использовать оборудование, делясь с руководителями, было возможно. И это уже была реальная, но весьма неупорядоченная, незаконная приватизация. Шла она так: кто-то на этом деле наживался, а все окружающие стояли рядом и кипели от возмущения.
Закон об аренде вроде бы упорядочил ситуацию, потому что теперь государственное предприятие можно было сдать в аренду. Арендатором чаще всего, чтобы никому не было обидно, предлагали сделать трудовой коллектив. Во многом на все эти ухищрения приходилось идти потому, что до 1992 года понятие государственной собственности оставалось священной коровой, табу, величайшим завоеванием социализма, на которое нельзя было покушаться. Вот мы и придумывали разные способы, чтобы ввести частного собственника как более рачительного хозяина, не снимая лозунга, что это – государственное предприятие.

В принципе, по крайней мере по названию, это была общенародная собственность, к которой имели отношение не только директора, не только рядом ходящие коммерсанты, но и рабочие этих предприятий и, самое главное, другие граждане России. Между тем эту общенародную собственность растаскивали прямо на глазах. В 1991 году было решено каким-то образом ввести этот поток в законное русло так, чтобы остановить это безобразие. Было ясно, что все равно приватизация неизбежна, если мы уж решили идти в рыночную экономику, но как ее проводить, было не ясно. Об этом спорили порой очень интересно.
Помню, летом 1990 года, оказавшись вместе в командировке, мы долго говорили об этом с Петром Авеном, нынешним президентом «Альфа-банка», а тогда – просто старшим научным сотрудником. Был один вариант, западный: государство продолжает заниматься предприятиями, готовит их к продаже. Для каждого завода составляется специальная комиссия, она изучает состояние дел, затем готовится специальная программа, вкладываются средства для того, чтобы подготовить предприятие к продаже, и через какое-то время, один – три года, оно продается по высокой иене, которая сложилась к этому времени на рынке. Именно так действовала Маргарет Тэтчер в Великобритании, когда там приватизировали угольную промышленность. То есть вариант проверенный, опробованный другими.
Однако у нас в то время не было никакого рынка капитала, и потому на рынке невозможно было оценить никакое предприятие. Все цифры его стоимости шли из баланса, то есть были совершенно условными, потому что они отражали только затраты на оборудование, здания и т.д. А раз все приходилось бы начинать с нуля, на такую приватизацию понадобилось бы лет тридцать, и то если бы хватило людей на все эти комиссии, а их не было. Так что все это становилось совершенно нереальным, тем более что за это время директора и другие хозяйственники найдут возможность захватить самые лакомые куски, ждать никто не будет.
А другой вариант-то, что я называю «восточной моделью», что было реализовано в Чехии, в России и в Литве: чековая приватизация. Впервые она была предложена нашим российским ученым Виталием Аркадьевичем Найшулем, который теперь от своей идеи как бы отрекается – «я тут не очень виноват, это так все потом извратили». Но в 1994 году я читал напечатанную на машинке его книжку, в которой он исходил из следующего: предположим, все наши основные фонды оцениваются в триллион рублей, и у нас – 250 миллионов населения. Нарезаем 250 миллионов бумажек – этих самых ваучеров, или приватизационных чеков – и раздаем всем по штучке. И номинал пишем: триллион, деленный на 250 миллионов. Дальше решается судьба государственной собственности: делаются соответствующие записи, технически это все оформляется…
Как ни странно, именно эта на первый взгляд дикая идея была реализована. И у нее были довольно серьезные плюсы. Не так давно Чубайс заявил, что он всегла был противником этих чеков и искал другие способы приватизации так, чтобы государственная собственность попадала сразу в хорошие руки. Но жизнь есть жизнь. Проводить приватизацию нужно было быстро, чтобы не допустить реставрации старых порядков, не продлить существование государственной собственности, которая растаскивалась, создать некий прорыв, за которым мог бы начаться поиск, выявление этих эффективных собственников и т.д.
Еще раз напомню, что и придумано это все было не Чубайсом.
Летом 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон об именных приватизационных чеках, согласно которым каждый гражданин должен был получить соответствующую долю национального богатства.

О. Бычкова:– А слово «ваучер», которое стало в результате ругательным, придумал тоже Найшуль?
Е. Ясин: – Это некое иностранное слово, обозначающее талон, на который можно получить что-то натуральное. У нас и тогда были, и сейчас стало еще больше людей, которые читают экономическую литературу на английском языке. Они ухватили это слово и принесли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: