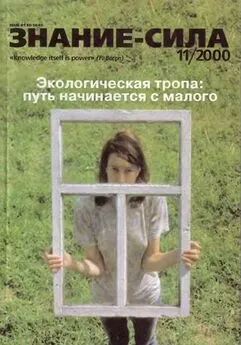Знание- сила, 2000 № 11
- Название:Знание- сила, 2000 № 11
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание- сила, 2000 № 11 краткое содержание
Знание- сила, 2000 № 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Латинский алфавит, создававшийся на основе греческого, исключил эти буквы, заменив их буквой «F». В тех же греческих словах, где встречались неприличные буквы, в латинской азбуке они заменялись сочетанием «Ph» и «ТЬ».
Ко времени создания славянской кириллицы все эти «неприличности» были прочно забыты, и буквы «Ф» (ферт) и «q» (фита) вошли в состав азбуки.
Редактируя в 1708 году проект русской гражданской азбуки, Петр Великий не исключил из нее ферта и фиту, явно не усмотрев в них никакого намека на оскорбление общественной нравственности.
Народная мудрость не прошла мимо этих двух одиозных букв: «стоять фертом», избоченясь; вести себя вольно, «руки в боки, глаза в потолоки». Ферт, да и только.
Что до фиты, то Гоголь уделил ей несколько слов в примечании к четвертой главе первого тома поэмы «Мертвые души»: «Фетюк» – слово, обидное для мужчины, происходит от q (фиты), буквы, почитаемой некоторыми неприличною буквой».
Гоголь выписывает разговор, который ведет в присутствии Чичикова Ноздрев со своим зятем. В этом разговоре выделим интересующее нас слово:
«- Ну, черт с тобою, поезжай бабитъся с женой, фетюк!
– Нет, брат, ты не ругай меня фетюком, – отвечал зять. – Я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает…»
Последними словами Ноздрева, высказанными в адрес зятя, были: «Такая дрянь… Да ведь такой.., с ним нельзя никак сойтиться. Фетюк, просто фетюк».
Реформа русской орфографии 1918 года, которую академик Д.С. Лихачев, впрочем, не одобрял, отмела в числе нескольких «лишних» букв также и надуманную фиту. Впрочем, в русской культуре создалось невиданное положение: вся эмигрантская литература издается по старой орфографии.

Аделаида Сванидзе
Сказка – ложь, да в ней намек…
Сказки Пушкина знают и любят все. С самого раннего детства. И спросите любого, где их корни, истоки. Скажут: ясно где – в русском фольклоре, русской старине. Скажут – и ошибутся.
Известный историк Аделаида Анатольевна Сванидзе посмотре ла на пушкинские сказки «со своей колокольни» – с колокольни медиевиста и пришла к выводу, что обширный пласт сюжетов, идей, символов и образцов в той или иной мере почерпнут автором в западном Средневековье. По существу, ее работа – первая попытка исследования такого рода.
Разумеетея, в России образованная публика привыкла слушать романсы и оперы западных композиторов, читать книги на языках подлинников. Русские поэты, писатели и до Пушкина, и в его время переводили произведения западной словесности, в том числе фольклорные, нередко прибегая к вольному пересказу. Но при этом, как правило, было ясно, что речь идет об иностранном материале.
Пушкин был – и оставался до конца дней – блистательным переводчиком. Однако, полностью осознавая своеобычность российского менталитета (ведь не случайно писал он в «Барышне-крестьянке», что «на аглицкий манер хлеб русский не родится»), проницательный поэт создает и применяет новый метод: «укоренение» иноземного материала в русскую культурную почву путем соединения фольклорных иноземных и национальных форм, то есть на народной, очень традиционной, а следовательно, глубинной подоснове культуры.
Это было замечательное открытие, которое, что очень важно, пролагало также один из магистральных путей от элитарной культуры – к широкой, общенародной. Примечательно, что сказочный материал Пушкин черпал именно из Средневековья, а это отвечало растушему интересу русской публики к собственному средневековому прошлому. Так что, если Пушкиным при его опытах и руководила потрясающая интуиция, она, как обычно, была дочерью знаний и ума.
Посмотрим, как использовал Пушкин в своих сказках материал западного Средневековья, что в нем искал, находил, как облекал в русские формы, и что – с его помощью – гениальный поэт выражал в своих сказках.
Первый же опыт создания стихотворной сказки, предпринятый в молодые годы, оказался просто великолепным. Речь идет о поэме «Руслан и Людмила», которая была написана в 1817-1820 годах (знаменитое введение к ней «У Лукоморья» поэт добавил уже в зрелые годы, 1828).
Действие поэмы происходит во времена Древнерусского государства. Но оно вписано в более широкую культурно- географическую общность, создавая ощущение то запаха «поля», то близости северных (финн) или западных (Фальстаф) земель. Столь же широкий характер имеет философская, нравственная подоснова поэмы-сказки: борьба добра со злом, жизни против смерти, красоты и гармонии против безобразия и распада как отражение извечного противоречия бытия, как (по выражению Д.С. Лихачева) «сверхреальная причинность событий». Этот основной мотив будет затем пронизывать все пушкинские произведения.

Основные персонажи поэмы-сказки «Руслан и Людмила» пришли из волшебных рыцарских поэм. Это герои и антигерои, которые ведут борьбу за Прекрасную Даму. Здесь и могучие богатыри, колдуны, ведьма, карлик и великан, живая голова, масса волшебных превращений и других всевозможных чудес – необходимого атрибута сказочности. Владения Черномора описаны с помощью штампов восточной экзотики: «арапы» – рабы, гарем, ароматы, фонтаны, шапка-невидимка, волшебная борода и т.д. Старик-«финн», который вспоминает свою лихую молодость, «битвы и пиры», добычу – злато, кораллы, жемчуг, удивительно похож на одряхлевшего варяга. «Зеленый дуб» из позднейшего введения – то же древо из начальных строк «Слова о полку Игореве», и древнегерманское «мировое древо», и скандинавский «ясень». А «кот ученый» – это и кот-баюн из русских сказок, и волшебный кот европейских поверий. Влияние распространенных культурных мотивов, пришедших еще из языческих времен, здесь совершенно очевидно.
В то же время, отнеся действие поэмы ко временам Древней Руси, Пушкин использует в ней приметы русской старины: Владимир-Солнце, Людмила и Ратмир, «вещий Боян» с гуслями (также из «Слова о полку Игореве»), витязи, брашны и круговые кубки в праздничной «гриднице», мед (как питье), набеги печенегов. Здесь и былинные, сказочные, языческие мотивы: неизбежность рока, меч-кладенец, серый волк и царевна, живая и мертвая вода, чародеи, русалки и лешие, баба-яга (в виде постаревшей Наины).
Правда, в отличие от традиционной особенности и былинно-сказочных, и рыцарских произведений Средневековья, где действующие лица практически не имеют индивидуальных черт, а ведут себя в соответствии с ролью, так сказать, с «разрядом» героя, персонажи пушкинской сказки обладают и индивидуальными характеристиками. Таковы жизнерадостность и шаловливая смелость Людмилы, горделивость и озлобленность Наины. Психологизм не только содержания, но и характеров – еще одно примечательное свойство пушкинских сказок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: