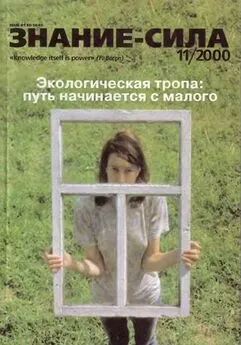Знание- сила, 2000 № 11
- Название:Знание- сила, 2000 № 11
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание- сила, 2000 № 11 краткое содержание
Знание- сила, 2000 № 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Напевный, «речевой» язык, построение и манера повествования, образы главных героев и отношение к ним автора поэмы таковы, что «Руслан и Людмила» органично и навсегда входит в литературу как произведение русской национальной культуры с ее самобытными традициями и корнями. Таким образом, уже в своей первой сказочной поэме Пушкин разработал методы творческой интеграции в отечественную культуру иностранного материала иной эпохи. Вершиной же стала «Русалка» (1829-1832 годы), к сожалению, недописанная поэтом и оставленная им без названия.
Русалки и их взаимоотношения с людьми – общеевропейский мотив, восходящий к языческим временам и распространенный, в том числе в России, прежде всего в народных представлениях и фольклоре. Пушкин обратился к этому сюжету вероятнее всего под впечатлением от популярной в то время оперы-сказки австрийца Генслера «Деревенская фея», которая в переводе шла в России под названием «Днепровская русалка».

Новое качество это произведение приобретает уже благодаря языку: Пушкин снова обращается к образной, сочной, афористичной русской народной речи. Но поэт основательно перерабатывает и саму сказку, вводя новые сиены и персонажи, искусно «встраивая» в поэму старорусские бытовые реалии: подлинный, старинный свадебный обряд, подлинную же, характерно скоморошью свадебную песню, наставления свахи («Княгиня, душенька, не плачь, не бойся, послушна будь»), жалобы княгини («Женился он, и все пошло не так») и утешения «мамки» («Княгинюшка, мужчина что петух… а женщина, что белая наседка: сиди себе да выводи цыплят»).
В стиле народной песни написаны «голос» старшей русалки на княжеской свадьбе, ночные речитативы перекликающихся русалок («Веселой толпою» и «Что, сестрицы, в поле чистом…»).
Трагедию обманутой любви Пушкин переплетает в своей поэме с трагическими же противоречиями социальных статусов. Хитроватый резонер-мельник, до поры заискивая перед князем, в сущности относится к нему недоверчиво и презрительно, причем мотивы неприязни весьма характерны для народных низов, которые считают трудом только физическую работу. Но нравственный приоритет автор безоговорочно отдает мельнику и его дочери. В сцене прощания с девушкой князь, с его безответственностью, красноречивыми оправданиями, лживыми объяснениями и явным облегчением, что все «кончено», поскольку он «бури ждал, но дело обошлось довольно тихо», выглядит не только непорядочным, но и жалким. А девушка не устрашилась позора, отдаваясь возлюбленному не венчанной. Как знак подлинного позора, знак «лукавого врага» (то есть дьявола) она отвергает подарки и деньги князя («выкупить себя он думал, он мне хотел язык засеребрить… венец позорный…») и кончает с собой, становясь фигурой высокой трагедии. В величественную фигуру вырастает и потерявший разум от горя мельник, отвергающий предложенные князем благодеяния и сравнивающий себя с вороном – вещей, могучей птицей древних, в том числе русских сказаний.
В результате под пером гения довольно банальная история о несчастной любви преобразилась в глубоко психологическую русскую народную драму.
Различные западные (и не только западные) средневековые сказочные и легендарные мотивы присутствуют почти во всех сказках Пушкина. Я буду говорить далее лишь о тех из них, где они использованы в наибольшей мере и наиболее точно передают глубинный замысел автора. Необычайная легкость, безыскусность, как бы наивность сюжета и языка пушкинских сказок не должны вводить в заблуждение: идейная острота, общественная содержательность делают их смысл несравненно более глубоким и сложным, чем это предполагается для детского чтения. И не случайно сам поэт, по моему убеждению, придавал своим сказкам важное значение…
Здесь уместно напомнить, что Пушкин в течение жизни, при всех ее поворотах и эволюции своих взглядов, твердо придерживался двух принципов. Один – Россия, понимаемая как Российская империя. Другой – свобода гражданская и личностная. Свободолюбие и патриотизм Пушкина «разрывались» между мощными влияниями, с одной стороны, Карамзина, который, как последователь просветителя-республиканца Н.И.Новикова, разделял многие идеалы эпохи Просвещения и равно ужасался как делам якобинцев, так и проявлениям крепостнической разнузданности и стоял на позициях просвещенного монархизма и «разумного» крепостного права. С другой – декабристов. Идеи и манифесты декабристов, где доминировали тираноборческие и республиканские идеи, призыв к свержению косной российской монархии, к отмене крепостного права, несомненно, привлекали поэта, пьянили его мятежную душу. Хотя с ходом времени, особенно после поражения декабристов, Пушкин постепенно все более смешался в сторону монархии, ограниченной правом (законом, конституцией) и просвещением.
Так или иначе, но поиск аргументов для определения и оправдания своей позиции побуждал поэта к путешествию в западное Средневековье, где его привлекали конституционные и парламентарные принципы, роль «среднего сословия», «обратная связь» между властью и народом, давно уже там сложившаяся. И в этом прежде всего сказывались общественные интересы Пушкина, который, как Чаадаев и многие другие передовые люди России, искал в западноевропейском Средневековье разгадку несхожести общественной жизни Запада и крепостнической подцензурной России, искал образцы или уроки.

Другой важный побудительный фактор обращения поэта к западноевропейскому Средневековью я вижу в серьезном интересе Пушкина к фольклору как источнику историко-культурного познания. Отсюда – его интерес вообще к легенде, мифу, сказке, рыцарскому роману, сведения о которых он черпал, в частности, из оригинальных произведений западноевропейского Средневековья, из необыкновенно популярных тогда произведений Вальтера Скотта и трудов западных историков.
Наконец, надо иметь в виду биофафию поэта. Препоны цензурные, служебные, в выборе объектов творчества, в содержании и трактовке сюжетов, даже в местожительстве и в передвижениях по собственной стране сопровождали Пушкина вплоть до гибели. Это нередко побуждало поэта маскировать стариной, особенно зарубежной, менее известной, свои идеи, оценки и чувства.
Наибольших вершин в этом отношении Пушкин достиг в цикле сказок, которые он назвал «народными». Созданные поэтом в 30-е годы, на последнем отрезке его жизни, они звучат как завещание. Обратимся к трем сказкам из этого цикла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: