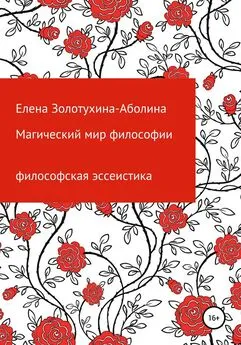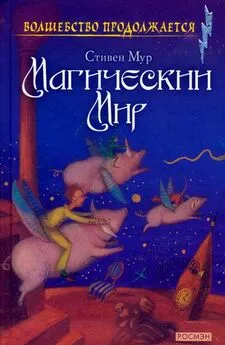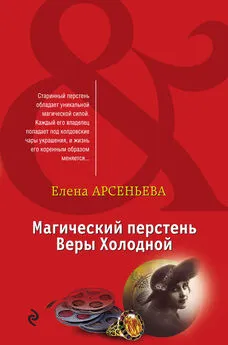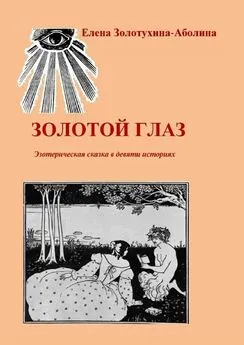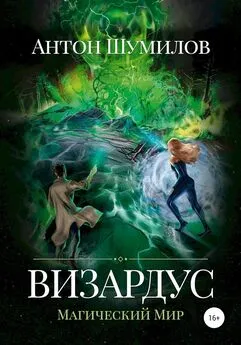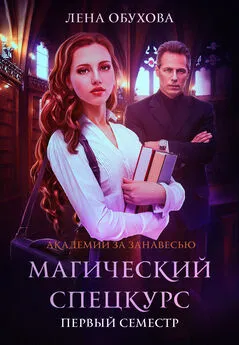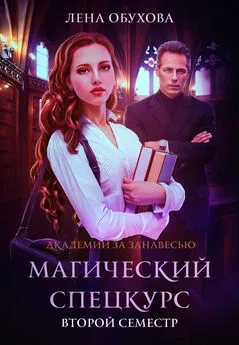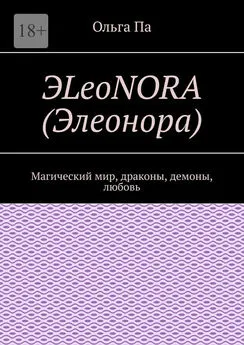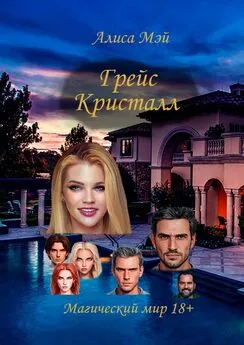Елена Золотухина - Магический мир философии
- Название:Магический мир философии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array SelfPub.ru
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Золотухина - Магический мир философии краткое содержание
Магический мир философии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Читая книгу, я испытывала чувство протеста против свойственного тексту Феррера «эпатажа в квадрате», и была полностью солидарна с переводчиком книги Александром Киселевым, который постоянно делает в сносках язвительные и остроумные критические замечания в адрес «революционера трансперсональности».
И тем не менее, проблема поставлена – проблема применимости и границ использования концепта «субъект – объект», а также вытекающей из него категориальной пары «субъективное – объективное». Она предполагает множество вопросов. Действительно ли субъект-объектное отношение – некий реликт философских воззрений прошлого? Насколько адекватно оно как способ видения обычной эмпирической реальности? Насколько сохраняется ( или не сохраняется) его гносеологическая ценность в ситуациях, связанных с измененными состояниями сознания ( от обычного сна до медитации)? Где здесь вообще может идти разговор о сознании, а где мы выходим за эти рамки, и имеем в виду нечто иное, не-сознание, а, быть может, область бессознательного ( подсознательного, пред-сознательного)? Разумеется, в рамках малого жанра невозможно ответить на все эти вопросы, но я попробую прочертить некоторые смысловые линии, способным указать возможные направления исследования.
Итак, ни для кого не секрет, что субъект-объектное отношение становится предметом активной критики в философии ХХ века: Ф.Ницше, М. Хайдеггер, Д.Гибсон Ж.Деррида, Ж. Делез – можно было бы назвать и другие знаменитые имена. Попробуем выдвинуть ряд возражений их достаточно широко известным положениям и развить собственный взгляд на предмет.
Мартин Хайдеггер, ниспровергатель языка философской классики и создатель метафорического языка экзистенциалов, стремился отказаться в философии как от субъект-объектного видения, так и от терминов, выражающих противопоставление субъективного и объективного 20 20 Я хорошо отдаю себе отчет в том, что термины «объект» и «объективное» не являются синонимами, но объект, как нечто, отличное от субъекта и противостоящее ему в качестве места приложения активности, тем не менее непосредственно связан с идеей «объективности» – независимости мира и его свойств от нашего сознания и воли.
. В частности, он пишет: «По сю сторону мира никогда нет никакого заранее готового человека в качестве «субъекта», все равно, понимать ли этот субъект в виде «я» или в виде «мы». Нет никогда и человека как субъекта, который всегда одновременно отнесен к объектам так, чтобы его сущность заключалась в субъект-объектном отношении. Скорее, человек сначала и заранее, в своем существе эк-зистирует, выступает в просвет бытия, чья открытость впервые только и освещает его «между», внутри которого «отношение» субъекта к объекту может «существовать» 21 21 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии М. 1988. С.345.
. Фактически, для Хайдеггера, субъект-объектное рассмотрение имеет статус «неподлинности», недаром в тексте цитируемой статьи само слово «отношение» взято в скобки. Оно – из мира сущего, оно мешает нам слышать голос Бытия. А хранителем Бытия, как мы знаем, по Хайдеггеру является язык. Как раз здесь и хотелось бы сделать первое возражение критикам субъект-объектного отношения, в данном случае в лице и великого и уважаемого оппонента.
Сама грамматическая структура языка – к речи какого бы народа мы ни обратились – свидетельствует о языке как способе выражения сущего и в немалой степени – субъект-объектного отношения. В русском языке для этого предназначен винительный падеж, отвечающий на вопросы «кого?» «что?» и предполагающий противопоставление того, кто действует и того, на что действуют. Аналогичную картину мы наблюдаем в немецком языке. В английском и французском языках то же самое выражается служебными словами. В большинстве языков Северного Кавказа существуют специальные грамматические формы для выражения активности действующего субъекта ( эргативности), и описание мира в этих языках невозможно без эргативных форм. Более того, в дагестанских высокогорных наречиях есть конкретизация в падежных формах предметности, на которую оказывается воздействие или с которой соотносится человек. Таким образом, сам язык является различителем того, что находится на стороне действующего и воспринимающего человека с его сознанием, а что – на стороне объекта, предмета, того, что не есть «моё активное Я».
Соглашаясь с Хайдеггером в необходимости не забывать Бытие, чья природа таинственна и внепредметна, я хотела бы подчеркнуть, что философ, живущий в мире и осмысливающий его практическую жизнь, не может закрыть глаза на те естественные условия «субъект-объектности», которые отпечатались в самом языке, причем в языке народа, а не злостных технократов современной эпохи.
Второе возражение касается позиции Джеймса Гибсона (1966, 1979), чья позиция подробно излагается и разбирается в вышедшей недавно книге Гарри Ханта «О природе сознания». Фактически, это будет возражение Гибсону и Ханту вместе, поскольку Хант в значительной степени с ним солидарен. Главная идея Гибсона состоит в том, что традиционному представлению о восприятии ( лежащему в основе всякого сознания) он противопоставляет восприятие движущегося существа, при котором возникают динамические паттерны впечатлений – мобильные и текучие. Окружающий порядок представляет таким образом смену «самоорганизующихся конфигураций», которые воспринимаются организмом одновременно как внешние и внутренние. Это именуется «экологический строй». «По мнению Гибсона, – пишет Г.Хант, – любое восприятие окружающего динамического порядка, или строя, одновременно и внутренне представляет собой проприоцепцию, или самовосприятие конкретного положения организма в этом строе. Иными словами, некоторый специфический поток наслоений, наплывов и перекрываний возможен только при столь же специфических положении и пути. По существу, строй всегда возвращает уникальное положение и телесную позу, из которых мог переживаться данный поток. Поэтому объемлющий экологический строй Гибсона исключает любую дихотомию субъекта и объекта. Он утверждает, что нет никакой информации о «там», которая одновременно не дает свое конкретное «здесь»как две фазы уникального соединения. Восприятие, действие и проприоцепция не являются разными функциями или альтернативами» 22 22 Хант Г. О природе сознания с когнитивной, феноменологической и трансперсональной точек зрения М. 2004. С.116.
.
Думается, что само употребление выражений «там» и «здесь» ( имеется в виду «на стороне субъекта и на стороне объекта») указывает на то, что интенция различения существует всегда. Предпосылки этого различения есть и у животных, которых Гибсон включает в свое рассмотрение: в драке собаки кусают противника, а не собственный хвост. Кроме того, когда разговор заходит о полноте неразличимости, вряд ли речь вообще может идти о сознании. Видимо, следует остановиться на понятии «состояния», «переживания», самоощущения, но к субъект-объектному различению, сопровождаемому ясным умом и твердой памятью, это не имеет отношения. «Экологический строй» – фундамент, на котором возвышается сознание, но не оно само. Соглашаясь с Гибсоном в том, что внутреннее и внешнее тесно связаны и отзываются друг в друге, мы не ликвидируем субъект-объектного различения, мы лишь снимаем грубое противопоставление между ними, ликвидируем искусственно созданный разрыв. Да, субъектное и объектное, субъективное и объективное отражаются друг в друге, коррелируют друг с другом, выступают как стороны одной медали, как полюса взаимодействия, но это возможно именно в силу того, что они различны, а не потому, что «их нет».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: