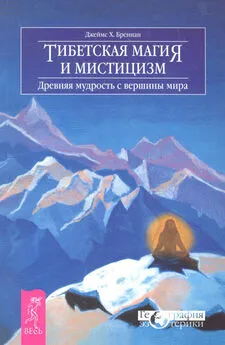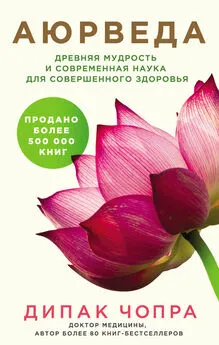Эдвард Слингерленд - И не пытайтесь! Древняя мудрость, современная наука и искусство спонтанности
- Название:И не пытайтесь! Древняя мудрость, современная наука и искусство спонтанности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ: CORPUS
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-086844-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдвард Слингерленд - И не пытайтесь! Древняя мудрость, современная наука и искусство спонтанности краткое содержание
И не пытайтесь! Древняя мудрость, современная наука и искусство спонтанности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эти две системы до определенной степени разделены и анатомически: за их функционирование отвечают разные участки головного мозга. Более того, первые данные о существовании этих систем ученые получили благодаря клиническим случаям, в которых частичное повреждение мозга позволяло исследователям увидеть, как одна система функционирует без другой. Видели ли вы фильм “Помни” (2000)? У пациентов, страдающих антероградной амнезией, не могут формироваться новые эксплицитные кратковременные воспоминания. Они помнят, кто они такие, и помнят свое отдаленное прошлое, однако обречены (по крайней мере сознательно) бесконечно забывать настоящее. Интересно вот что: хотя эти люди не могут приобретать новые сознательные воспоминания, на бессознательном уровне у них могут формироваться новые имплицитные . Они не могут вспомнить врача {31} 31 Эксперимент с булавкой изначально поставил Эдуард Клапаред. См.: LeDoux 1996: 181–182. Также см.: LeDoux 1996; Zajonc 1980; Pessoa 2005.
, который ежедневно подает им руку с булавкой, но по какой-то причине будут избегать пожимать ему руку. Такое же разобщение мы наблюдаем {32} 32 См.: Ryle 1949; LeDoux 1996; Goodale and Milner 2004; Enns and Liu 2009.
, когда речь заходит о навыках разных типов: бессознательное “знание как” существует отдельно от сознательного “знания что”. Как и в случае с эмоциональными воспоминаниями, эти два типа знания, похоже, создаются и обрабатываются разными частями мозга. Пациент с амнезией не только “помнит”, что не стоит пожимать руку доктору с булавкой, но и способен приобретать новые физические навыки после тренировок, не имея никакой осознанной памяти о них и даже не имея возможности объяснить, как или почему он получил эту новую способность.
Несмотря на то, что о “разуме” и “теле” говорить неверно, это позволяет уловить важное различие между двумя системами: “медленной” сознательной психикой и “быстрым” бессознательным набором инстинктов, интуиции и навыков. “Я” обычно ассоциируется с “медленной” сознательной психикой, потому что она лежит в основе нашего сознательного понимания и ощущения собственного “я”. Но под этой сознательной личностью находится другая – более масштабная и могущественная, – к которой у нас нет прямого доступа. Именно эволюционно древняя часть психики знает, как плеваться или переставлять ноги при ходьбе. Именно с этой частью мы боремся, пытаясь устоять перед новой порцией тирамису или заставить себя вылезти из постели и отправиться на важную встречу.
Цель у-вэй – заставить обе составные части “я” работать эффективно и сообща. У человека в состоянии у-вэй разум воплощен в теле, а тело – в разуме. Работа двух систем синхронизируется, чем достигается осмысленная спонтанность, идеально соотносящаяся с обстановкой. Плавность, с которой скользит нож Дина, передается звукоподражаниями – вжик! бах! (Характерная черта “Чжуан-цзы” и головная боль переводчиков.) Легкость, очевидная тем, кто наблюдает за работой Дина, отражает внутреннее ощущение повара, когда его охватывает “духовное желание” и бычья туша буквально распадается под ножом на части. Точно так же краснодеревщик Цин описывает творческий процесс как стремление дать раме для колоколов самой открыться ему. Все, что нужно, – это приложить руку, и рама появляется сама, как по волшебству.
То, как осуществляется интеграция, объясняет нам, например, повар Дин. Вспомните три стадии “видения”, которые он описывает правителю: “Поначалу, когда я занялся разделкой туш, я видел перед собой только туши быков, но минуло три года – и я уже не видел их перед собой! Теперь я не смотрю глазами, а полагаюсь на осязание духа”. Эти строки описывают акт “видения” при использовании разных частей “я”. Пока Дин был неопытен и видел “только туши быков”, он смотрел глазами – и перед глазами его было огромное страшное существо, которое он каким-то образом должен разъять на части. Любой видевший вблизи быка (что нечасто случается в современном мире) может представить себе состояние повара-дебютанта. Вот он стоит с ножом перед стеной плоти, не представляя, с чего начать. (Я, например, отправился бы искать другую работу.)
Но нам придется поверить, что повар Дин проявил больше настойчивости и после трех лет практики достиг точки, когда “уже не видел их [туши] перед собой”. Возможно, теперь Дин видит, как на тушу накладывается нечто вроде схемы из мясного магазина. Бык для него уже не инертное препятствие. Обладающий опытом и аналитическим умом повар воспринимает тушу как сумму ее частей, как последовательность движений ножа, как трудности, которые он должен преодолеть. На этой стадии бык для повара Дина то же, что для гроссмейстера шахматная доска в середине партии: там, где мы видим просто фигуры, шахматист видит линии атаки и уязвимые сектора обороны.
Наконец, Дин достигает этапа, когда он уже не смотрит глазами: “Я перестал воспринимать органами чувств и даю претвориться во мне духовному желанию”. Студентам я объясняю это состояние посредством аналогии со “Звездными войнами”. В финале первого фильма (1977) Люк Скайуокер отправляется на трудную миссию. Ему нужно взорвать Звезду Смерти и, чтобы преодолеть защиту станции, придется пролететь по узкому каналу и пустить протонные торпеды в единственное ее незащищенное место. У Люка, преследуемого Дартом Вейдером с его подручными, лишь один шанс. Когда Люк достигает нужной точки и пытается активировать систему наведения, он слышит слова погибшего Оби-Вана (произнесенные звучным голосом Алека Гиннеса): “Используй Силу, Люк”. К ужасу тех, кто следит за ним с базы, Люк отключает компьютер, закрывает глаза и обращается к Силе, чтобы почувствовать время для выстрела. И – попадает. Звезда Смерти уничтожена, и он победителем возвращается к принцессе Лее – предмету юношеских грез рубежа 70-х – начала 80-х годов. (Мне до сих пор кажется очень привлекательной эта ее прическа.)
Если бы Чжуан-цзы был нашим современником и имел хорошего адвоката, я бы посоветовал ему требовать роялти: стратегия Люка в точности совпадает со стратегией повара Дина: “Я перестал воспринимать органами чувств” (отключил систему наведения) и “Даю претвориться во мне духовному желанию” (позволяю Силе вести меня). Более того, связь Чжуан-цзы с “Звездными войнами” исторически корректна. Джордж Лукас, изобретая мифологию “Звездных войн”, в особенности рыцарей-джедаев и персонажей вроде Йоды, по крайней мере отчасти вдохновлялся бусидо , кодексом японских воинов, где конфуцианство сочетается с изрядной долей японского дзэн-буддизма. Последний, в свою очередь, вышел из китайского чань-буддизма {33} 33 “Дзэн” – японское прочтение китайского иероглифа “медитация”, который в современном китайском читается “чань”.
, а тот (как я люблю говорить, когда хочу позлить коллег-буддологов) – это просто Чжуан-цзы в буддистских одеждах. Наденьте на повара Дина самурайский доспех, дайте ему меч, и в “Последнем самурае” он будет выглядеть как родной. Так что между историями {34} 34 Дзэн повлиял на Лукаса в первую очередь посредством бусидо , а с этой концепцией Лукас познакомился благодаря фильмам Куросавы. См.: Baxter 1999: ch. 7.
о поваре Дине и о Люке Скайуокере существует прямая линия интеллектуальной преемственности. Правда, идея “темной стороны” Силы сугубо христианская и в восточноазиатском контексте не имеет смысла, но образ ведомого Силой джедая весьма похож на Дина, закрывающего глаза и “дающего претвориться в нем духовному желанию”.
Интервал:
Закладка:
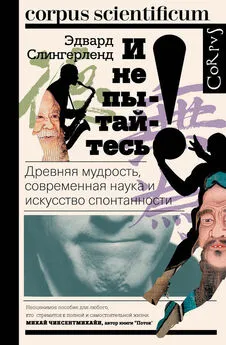

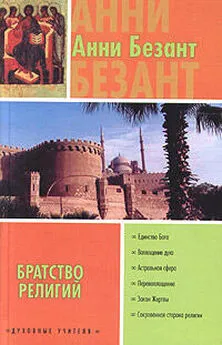
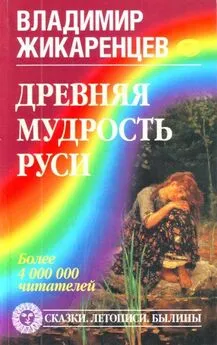
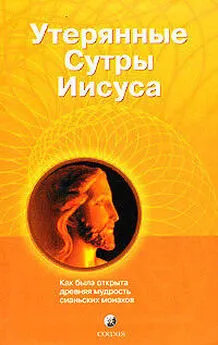
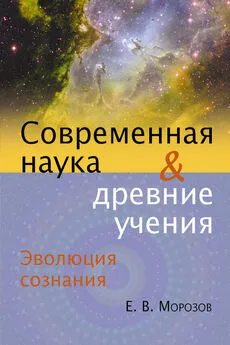
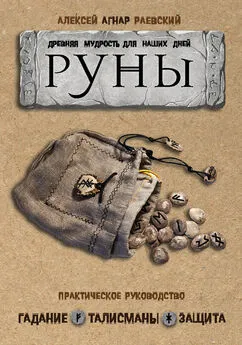
![Дэвид Райх - Кто мы и как сюда попали [Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом]](/books/1066346/devid-rajh-kto-my-i-kak-syuda-popali-drevnyaya-dnk-i.webp)