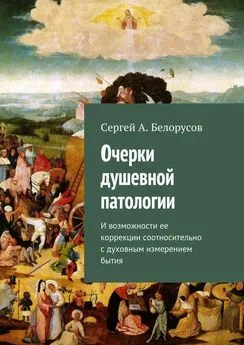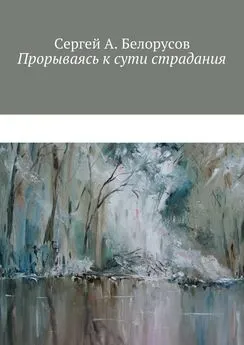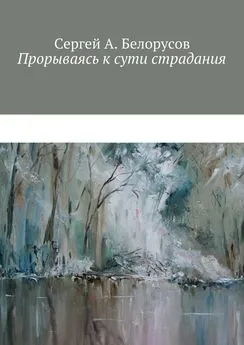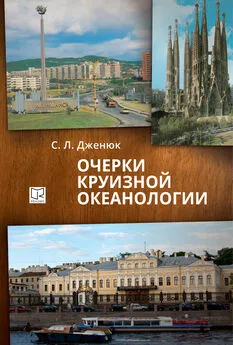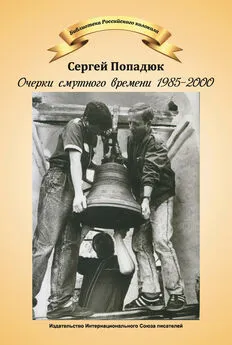Сергей Белорусов - Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия
- Название:Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Sanktum
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Белорусов - Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия краткое содержание
Книга посвящена христианскому осмыслению ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. ТВОРЧЕСТВА, СТРАДАНИЯ, ЛЮБВИ, ПАТОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ, СЕКСУАЛЬНОСТИ, ЗРЕЛОСТИ, ОТНОШЕНИЮ К СМЕРТИ И ДУХОВНОМУ РОСТУ. Ее можно было бы также назвать: «Как радоваться тому, что ты христианин в сложном современном мире».
Очерки душевной патологии и возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
8. Понимание греховности человеческой природы и учёт состояния человека Понимание греховности человеческой природы помогает психологу-христианину не становиться в позицию осуждения по отношению к наличному Я» принимать человека» сочувствуя его духовному состоянию. Старинное изречение «ненавидь грех» но люби грешника» является хорошей подсказкой для психолога-христианина.
Учитывая вышеприведенные «кодексы веры психотерапевта», надлежит принять во внимание следующее. Во-первых, представляется целесообразной имплицитная идентификация нашей терапевтической стратегии в качестве «православной» с тем, чтобы остановиться на более широком определении — РЕЛИГИОЗНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. Это позволит не ограничивать контингент потенциальных клиентов конфессиональными рамками. Современный православный психолог С. Мьюз в рабочем определении того уровня, когда консультирование можно назвать пасторским, приводит такие пункты, как: «то, что оно проистекает из экзистенциального положения о том, что наша свобода абсолютна и безгранична, что дает возможность опираться и на мудрость науки и смирение веры и свидетельствует о любви. Не терапевт первый возлюбил клиента, но Бог изначально возлюбил их обоих. Поэтому термин «православная психотерапия» является химерой, поскольку Бог, открывающийся нам из Евангелий, Духом Святым промышляет о всей полноте Своего творения». (27) Вообще, вопрос о границах Православия является неразрешенным богословски, и нам ближе мнение чтимого подвижника о. Серафима (Роуза), который «процитировал слова современного румынского исповедника о. Георгия Кальчу: «Церковь Христова жива и свободна. Ты находишься в Церкви всякий раз, поднимая сломленного скорбью, подавая нищему, утешая больного. Ты в Церкви, когда взываешь «Господи, помоги мне». Ты в Церкви, когда ты добр и терпелив и отсекаешь гнев на брата, даже если он ранил твои чувства. Когда честно трудишься, возвращаясь домой уставшим, но с доброй улыбкой. Сострадай тому, кто рядом. Никогда не спрашивай «кто он?», но говори — «он не чужой. Он как и я — Церковь Христова» (10).
Во-вторых, нам представляется более продуктивным устоявшийся термин «психотерапия» понимать не столько как буквальную кальку с греческого «лечение душой», сколько как «психологическую терапию, то есть — клинический метод лечения патологических состояний посредством ресурсов, заимствованных из психологии. Таким образом, в фокусе внимания оказывается вопрос — как действеннее использовать эти инструменты? Здесь представляется уместным понятие «прикладное» или «клиническое» богословие. То, что постулировано — открыто, дознано, вымолено в конвенциональной религии может быть транслировано, с известной степенью адаптации, редукции, упрощения, но не вульгаризации на ситуацию страдания пациента. Терапия, таким образом, становится наукой и искусством герменевтики — толкования вечных истин применительно ко временной ситуации. От гомилетики (проповеди) ее отличает принципиальное отсутствие призыва к буквальному подражанию, а приглашение к совместному вчувствованию в элемент универсального традиционного духовного опыта.
Таким образом, ведущей техникой, равно как и фундаментальной доминантой здесь будет актуализация способности к транскрипции, понимаемой как точное и творческое соотнесение понятий, относящихся к разным уровням личностного бытия. Процесс терапии такого рода представляет собой перевод категорий духовного уровня, явлений духовного мира в сферу психического без существенных потерь качества и смысла, осуществляемый с той целью, чтобы человек незнакомый (в силу ситуационных или болезненных причин) с реалиями высшего порядка, смог выстроить свою жизнь, оказываясь не чуждым им и двигаясь по направлению к ним. Здесь больший акцент приходится на аксиологическую семантику, структурную лингвистику и бережную герменевтику, нежели чем на собственно психологические приемы, техники и интерпретации. Результатом такового успешного процесса является не просто переструктурирование личности в плоскости, но открытие возможности иной, объемной перспективы, когда актуализируется ранее блокированная способность личности к рецепции Трансцендентного миру Начала. (5).
РОП-терапия принципиально «традиционна», в том смысле, что укоренена в базисе общебиблейском (в этическом аспекте — Декалог, на эмоциональном уровне — Псалтирь), общехристианском (Нагорная Проповедь как образ трансценденции плоскостной нравственности земного «здравого смысла») и, наконец, в Православном веро-осуществлении — ортопраксии. И в этом смысле она будет парадоксально инновационной, когда миссионерски оправданным и экономически верным является включение в свод традиций непривычных явлений, событий и архетипов. Здесь будет последовательно применяться принцип «делания» — аскетически ли «умного», душевно ли «трезвенного», поведенчески ли «решительного». В ней будет осуществляться антиномия сочетания активной вовлеченности в процесс с искренней благодарностью за результат, отличный от запроса, поскольку здесь есть место доверия Промыслу. В определенном смысле верным будет утверждение того, что в рамках РОП-терапии уместно столько авторских терапевтических методик, сколько православных профессионалов отважится на деятельность в этом направлении.
Блок 5
Рассмотрим модель одного из РОП-терапевтических подходов, детально описанного в монографии «ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ» (7). В начале условимся о не совсем привычной терминологии. Понятия «пациент», «клиент», «консультируемый» мы заменим словом «странник», а «специалист», «психотерапевт», «консультант», соответственно, словом «спутник». Подобная перестановка может помочь иначе структурировать в нашем сознании отношения внутри процесса, открыть иные измерения, высветить новые глубины смысла.
Человек, входящий в кабинет специалиста и ожидающий помощи — странник . Он, в первую очередь, странен, то есть принципиально несводим к предполагаемому о нем. Он — другой, больше или меньше, уже или шире, выше или ниже — по отношению к любой проективной конструкции, неминуемо возникающей в восприятии его специалистом. Посещение странника — милость, благословение и вызов. Вызов профессиональной компетентности и способности к нелицемерному состраданию. Явление странника несет в себе тревогу и радость, угрозу и надежду. В перспективе терапии тревога и угроза будут преодолены, утилизированы в качестве энергетического ресурса, а радость и надежда актуализированы, обоснованы и утверждены.
Вчувствуемся «во вкус» этого слова. Странник — посланец неведомой страны, где все по-другому. Странник — ранен. Странник приходит рано. Последнее означает, что мы всегда не готовы его принять, как подобает, указывает на наше несовершенство и открывающийся простор для действий и последнее. Странник приглашает в путешествие, именно через него осуществляется спутник .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: