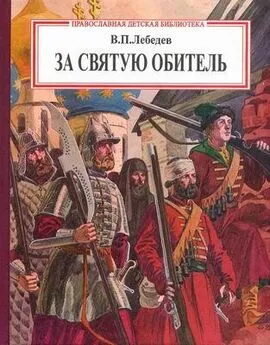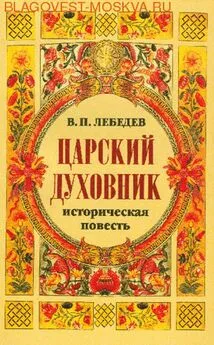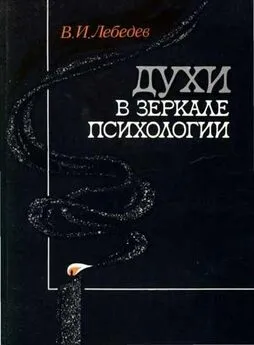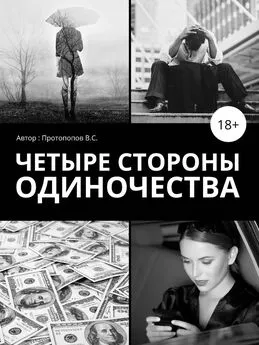Владимир Лебедев - Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции
- Название:Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Юнити-Дана
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-238-00338-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лебедев - Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции краткое содержание
Вторая часть посвящена психологической совместимости при управлении техническими средствами в составе группы. Проводится анализ взаимоотношений в группах, находящихся в экологически замкнутых системах. Раскрывается динамика развития социально-психологической структуры группы: изменение системы отношений, астенизация, конфликтность, развитие неврозов и психозов. Выделяются формы аффективных реакций при возвращении к обычным условиям. Проводится дифференциальная диагностика психозов от ситуационно возникающих необычных психических состояний, наблюдающихся в экстремальных условиях. Раскрываются методические подходы формирования экипажей (экспедиций), работающих в экологически замкнутых системах и измененных условиях существования. Даются рекомендации по мерам профилактики развития неврозов и психозов.
Для студентов и преподавателей вузов, специалистов, а также широкого круга читателей.
Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Социальная изолированность людей, находящихся в обществе, приводит не только к тягостным переживаниям, но иногда и к развитию психозов.
Глава 7
АУТИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ «СИНДРОМА ИЗОЛЯЦИИ»
Содержательным стержнем аутизма как клинического синдрома является недостаточность общения, неконтактность. некоммуникабельность. Различие между широкой психологической концепцией «аутистического» и аутизмом как клиническим признаком состоит в том, что в рамках нормальной психики возможны все виды аутистического мышления при сохранении возможности управлять им, тогда как в патологии эта возможность нарушается или утрачивается.
В. Е. Каган
По характеристике П. Б. Ганнушкина, психастеник не человек дела, а мечтатель и фантазер. Большей частью он не любит физического труда, очень неловок и с большим трудом осваивает навыки ручной работы. Это человек, не способный к борьбе за существование, ему нужны упрощенная жизнь, тепличная обстановка. Одна из чрезвычайно характерных его черт — склонность к самоанализу. Собственный субъективный мир является для него как бы театром, в котором разыгрываются сцены какой-то идеологической комедии, на представлении которой он сам присутствует в качестве далеко не безразличного зрителя. Непосредственные чувства, как представителю заостренного мыслительного типа, ему малодоступны, а беззаботное веселье редко становится его уделом. Он часто предается всевозможным размышлениям абстрактного характера, не имеющим к нему прямого отношения, и непременно старается найти в них ответы. В выраженных случаях психастеник занят бесплодной умственной работой, так называемой «умственной жвачкой».
В воображении лица шизоидного круга акцентуации характера могут пережить многое, но от участия в реальной жизни они всячески стараются уклониться. Психастеники уязвимы и легко ранимы, но в общении, как правило, деликатны и тактичны.
Это как раз тот тип личности, как и сензитивной, когда в наибольшей степени страдает носитель этого типа, а не общество.
7.1 «Процесс»
Аутистическое мышление выступает на фоне психического отчуждения с наличием ассоциативного процесса, лишенного информационно адекватных связей с объективной действительностью. Оторванные от внешнего мира и замкнутые в субъективном мире мысли рождаются и трансформируются, приобретая ирреальное, символическое и галлюцинаторно-бредовое содержание.
А. М. Меграбян
Одной из литературно-художественных сенсаций XX в. явилось посмертное опубликование литературного наследия Франца Кафки. Он не предназначал свои произведения для опубликования. В них с предельной яркостью и образностью раскрыт причудливый и таинственный мир болезненной личности, пытающейся спрятаться от внешнего мира в грезах и фантазиях.
В отличие от писателей-реалистов, у которых личность художника обычно не выступает на первый план и не затемняет героев, в которых течет «человеческая кровь», произведения Кафки являются в значительной мере записью его внутренних состояний и видений, рассказом о мучительных страхах и химерах, владевших его сознанием, омрачавших его безрадостную жизнь.
Ф. Кафка родился в 1883 г. в Праге. Отец его, сыгравший отрицательную роль в жизни сына, был галантерейным торговцем с железной хваткой. Подавляя волю сына, ломая его созерцательный характер, он требовал от не созревшего подростка участия в непосильной для него работе в торговых делах. Под давлением отца Ф. Кафка окончил юридический факультет и работал мелким служащим в конторе по страхованию от несчастных случаев, где занимался расследованием производственного травматизма. В безнадежной борьбе с недугами, в недорогих пансионах для больных чахоткой, на своей работе он нагляделся на многообразие человеческого горя и не раз ему открывалась безнадежность человеческой нужды. Сам он материально зависел от семьи, для которой, в какой-то мере, был обузой. В 1924 г. Франц Кафка умер от туберкулеза.
Будучи безвестным чиновником, Ф. Кафка жил двойной жизнью: однообразная служба угнетала и мучила его. «Повседневность, — пишет литературовед Б. Сучков, — возникала перед ним подобно унылой и однообразной пустыне, страшившей его и внушавшей ему чувство безнадежности. Прибежищем от скудности жизни для Кафки становится противостоящее повседневности искусство, которое он любил и ценил превыше всего». Он мучительно переносит несовместимость творческих интересов и повседневных занятий, что видно из дневниковой записи: «Для меня это ужасная двойная жизнь, из которой, возможно, есть только один выход — безумие». Драматизм настроения Ф. Кафки, как считает Б. Сучков, усугублялся фанатическим отношением к своему художественному призванию, поглощавшему его целиком и безраздельно. «Читаю в письмах Флобера: «Мой роман — это утес, на котором я пишу, и не знаю что творится в мире». То же самое испытал и я ...» — читаем в дневнике Ф. Кафки.
Но и в этом творческом прибежище ему было не легче, ибо, уходя от мира внешнего в область творчества, воображения, создавая иной мир, непохожий на реальный, он не мог уйти от самого себя, от владевшего им постоянного чувства тревоги, тоски, видений и страха. В его дневнике есть такие записи: «Мне надо много быть одному. Все, что мной создано, — это плод одиночества». Он замыкается в собственной личности, глубже и глубже погружается в самосозерцание, которое мешает ему увидеть полноту жизни. Искусство не разрешало внутренних конфликтов его личности, а само творчество проходило в полуэкстатическом состоянии, подобному экстазу мистиков. В дневниках можно проследить «наплывы» его болезненного душевного состояния: «Видение...», «Бессонная ночь. Третья подряд... Я думаю, что эта бессонница происходит от того, что я пишу...», «Я не могу спать. Только видения, никакого сна...» В одном из писем Милене Есенской он сообщает: «Итак, вот оно, обещанное вчера объяснение. Я болен душевно, легочное заболевание есть только вышедшая из берегов душевная болезнь».
Б. Сучков считает, что многие из видений превратились в символические притчи, которые составили значительную часть творческого наследия Ф. Кафки. Главенствующей чертой и особенностью его поэтики стало пренебрежение к объективной причинности. И в то же время он пытался внести логику в нелогичное, упорядочить то, что не может быть упорядочено, ибо ирреально, отделено от подлинных жизненных связей. Его внутренний мир, чудовищный и безотрадный, а ровно и его болезненное состояние, очень во многом определили духовный тонус и особенности его произведений.
В разработке основной для его творчества темы, связанной с отражением последствий отчуждения человека, проявилось его тяготение к конструкциям, схемам, приводящим к взгляду на человека как на пассивное, страдающее существо, испытывающее на себе давление непостижимых, громадных сил зла. Этот принцип его художественного мышления раскрывается в дневниках:«Все возникает передо мной (не как образ, а — В. Л) как конструкция» и «Я нахожусь на охоте за конструкциями» ( 172-а, с. 10).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: