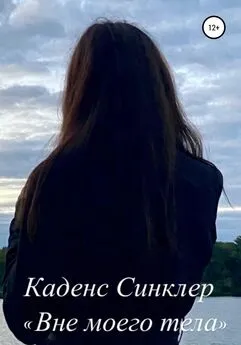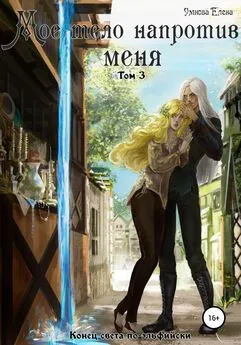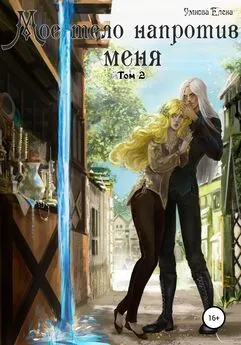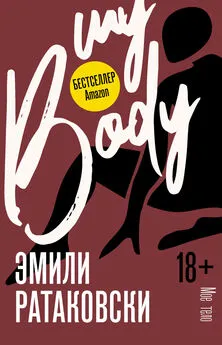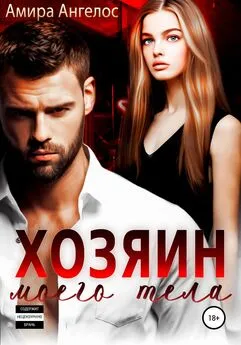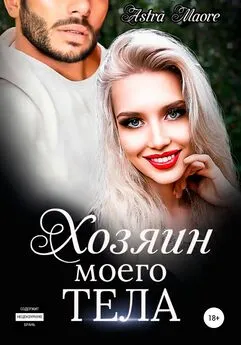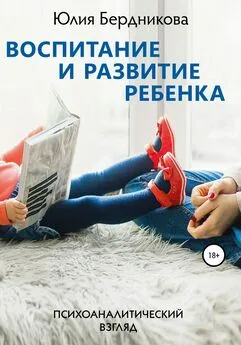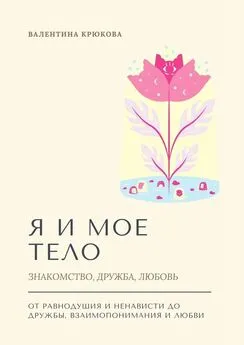Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]
- Название:«Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Когито-Центр
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89353-537-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела] краткое содержание
«Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Спустя продолжительное время выясняется, что у ее мужа уже давно отношения с другой женщиной, конечно, он вменяет ей это в вину и упрекает ее в том, что она больше недостаточно молода! Это именно то, что она все время о себе думала. Муж внезапно оставляет ее и детей. С этого момента терапия, в первую очередь, сопровождает ее во время длительной фазы расставания и развода, речь постоянно идет о ее идентичности как женщины, она постоянно убеждается, что потерпела неудачу в браке, при этом она вполне удовлетворена своей материнской функцией и работой. Часть ее чувствует себя виноватой, лишенной всякой ценности, как брошенный ребенок в детстве, который не знает, как себе помочь, кроме как обвиняя себя в том, что его сначала оставила мать, а потом и отец, и объясняя все это своей никчемностью. Динамика в том числе эдипальна: она превзошла мать и осталась наедине с отцом, отец при этом тоже оставляет ее, нарушая имплицитное обещание поставить ее на место матери. Динамика брака похожа на это, и сейчас госпожа Ниман наконец развивается в долгом процессе освобождения от зависимости от отца и мужа, процессе развития независимой идентичности, при этом с постоянно возникающими дисморфофобными тревогами, что ее лицо обезображено.
То, что пациентка на самом деле не могла увидеть, так это развитие отношений в браке. Вместо этого она видела себя в зеркале и видела катастрофу в своем лице. Страх быть «неправильной», который был у нее с детства, она смещала и проецировала на часть своего тела.
Однажды она сказала, что больше не может выносить свое лицо, не может смотреть в зеркало. Она поняла, что видит в зеркале собственную мать, что это на самом деле материнский взгляд. Это случается незадолго до летних каникул в терапии, т. е. накануне ситуации, когда она останется покинутой. Она опять много думает о том, что ее лицо уродливо, особенно после операции.
Она вынуждает меня сказать ей, что ее лицо в порядке и после некоторых колебаний я говорю ей: «У вас лицо хорошо выглядящей 40-летней женщины». Она испытывает облегчение, видимо, это ей необходимо накануне летних каникул. Если бы ее горе действительно состояло в искажении лица, все можно было бы исправить хирургически, все (брак, устройство жизни) наладилось бы. Другой возможностью стало бы представление о том, что третий ребенок мог бы содействовать этому восстановлению: если брак в порядке, рождается ребенок, т. е. он должен быть в порядке, когда зачинают ребенка (это похоже на магическое мышление госпожи Арбейтер, которая думала, что если она толстая, значит, она беременна, ведь беременные толстые). После того как в терапии был достигнут определенный прогресс, ей приснился сон: она договорилась о встрече с институтским другом и замечает по дороге к нему, что парикмахер, у которого она была, очень коротко ее постриг (изменения тела!), она в ужасе. Он должен был только подровнять концы, а сам провернул всю работу! Она также в ужасе от чувства, что в ней больше не осталось ничего женского, она совершенно как мужчина! Очевидно, что парикмахер во сне представляет собой аналитика: она хотела вылечить симптом (исправить лицо), а сейчас брак разрушен, т. е. аналитик «провернул всю работу». Жить самостоятельно (без мужа) — значит для нее быть «мужественной», означает утрату женственности и страх больше не найти партнера. Но это прогресс, что она способна видеть сон о теле, а не бредить о нем.
«Нежелательное желание» иметь ребенка: размышления о функции желания завести ребенка, фантазиях о беременности и собственно беременности
«У меня нежелательное, ах, я имею в виду, конечно, неосуществленное желание иметь ребенка…» Такая оговорка пробуждает аналитика от свойственного профессии сна, похожего на сон кормилицы, которая не проснется от грохота пушек, но обязательно проснется от детского плача. В этой связи я слышал и другие оговорки: «отсутствующее желание иметь ребенка», как будто страстное желание ребенка в какой-то момент исчезло. Однажды я слышал и «нормальное желание матери», здесь бессознательное, конечно, выразило желание иметь мать. Желание ребенка и его исполнение, т. е. беременность, рождение и родительство показывают обоим родителям в процессе развития их идентичности момент достижения идентичности взрослого человека и связанное с этим успешное освобождение от инфантильной зависимости.
Я различаю три формы желания иметь ребенка: во-первых, зрелое, легитимное нарциссическое желание достижение идентичности взрослого (у мужчины и женщины) и репродукции, во-вторых, протестную попытку подростка избежать достаточной степени сепарации и развития, так сказать, насильно стать взрослым и отграничиться от родителей и, в-третьих, попытку создать для себя в желанном ребенке материнский объект как выражение регрессивных потребностей, т. е. стать матерью для самого себя в лице ребенка (лучшей, чем собственная мать человека в детстве).
Но уже в случае с успешным развитием идентичности желание ребенка и беременность сопровождаются амбивалентностью, которую следует признать и выдержать ради самого желания (Zeller-Steinbrich, 2001), поскольку оно всегда означает утрату, ограничение: человек теряет либо последние остатки детства, которые, вероятно, хотел бы сохранить, или же свобода молодого взрослого оказывается под угрозой, поскольку он не хочет себя снова связывать слишком прочными узами. Ни одно событие не изменяет жизнь и идентичность человека так, как беременность и рождение первого ребенка. В течение 20 лет человек живет с ним и приспосабливается к нему, и даже после этого обратного пути к идентичности не-родителя нет. Эта амбивалентность обнаруживается в каждой среднестатистической паре и при определенных обстоятельствах может стать очень сильной, а именно когда молодые родители сами еще недостаточно «дошли до этого», недостаточно удовлетворены достигнутым статусом развития их идентичности. Если речь идет о совсем молодых родителях, нет ничего удивительного, что они еще не достигли такого уверенного чувства идентичности (и часто нельзя определить возрастные рамки подростковости — на сегодняшней стадии развития общества и культуры подростковый возраст длится вплоть до начала пятого десятка). По сути это та же амбивалентность, что и при вступлении в брак и въезде в собственный дом (ср.: Das Haus, Hirsch, 2006a): это признаки совершившегося взросления, того, что человек сумел самоопределиться и жить самостоятельно, с другой стороны, они означают ограничение свободы, прикованность к месту и особенно привязанность к партнеру. В динамике изменений идентичности посредством беременности (особенно первой) я согласен с Динорой Пайнс (1990). Она видит беременность как ступень индивидуации и, соответственно, освобождение от отношений с матерью. Если ранний опыт отношений с матерью был достаточно хорошим, нарциссическая идентификация с собственным ребенком, в воскрешении первичной идентификации с матерью, несмотря на всю амбивалентность воспринимается как «приятная». Бергер выделяет аспект воскрешения ранних отношений «мать — дитя» еще в ходе беременности и видит в ней также задачу последующего освобождения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]](/books/1145734/matias-hirsh-eto-moe-telo-i-ya-mogu-delat-s-nim-ch.webp)
![Стелла Грей - Владелец моего тела [litres]](/books/1063514/stella-grej-vladelec-moego-tela-litres.webp)