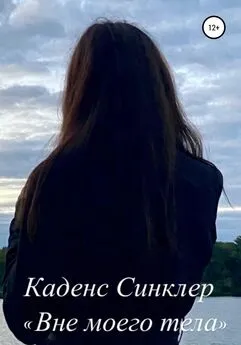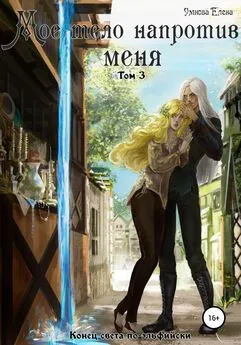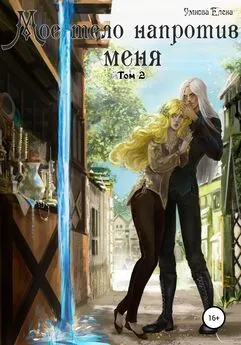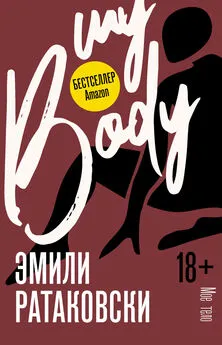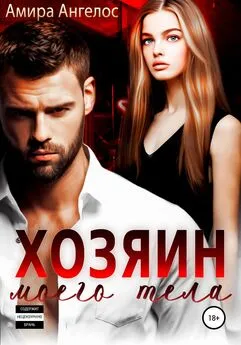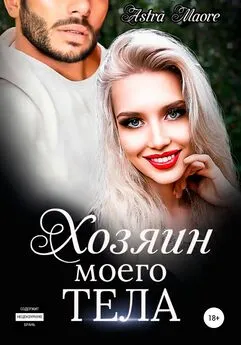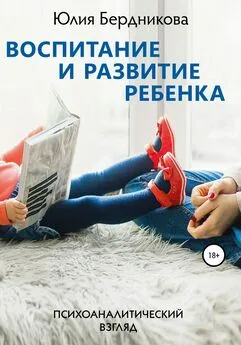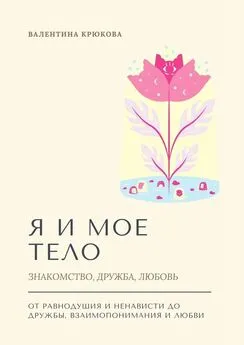Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]
- Название:«Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Когито-Центр
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89353-537-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела] краткое содержание
«Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Речь здесь идет о том, чтобы наряду с внутренним, регрессивным сближением с собственной матерью во время беременности одновременно прийти к дифференциации от этой матери и активному материнскому приспособлению к собственному ребенку, которое при этом не соответствует симбиотическому слиянию с ребенком (Berger, 1989a, S. 23).
Если же амбивалентность слишком велика, желание ребенка, беременность и рождение могут одновременно и вызывать страх как угроза идентичности, и, напротив, породить стремление найти в ребенке суррогат собственной ненадежной идентичности. Часто женщины, которые, так сказать, вели войну с собственным телом в подростковом возрасте, не могли принять его именно в его женственных формах (здесь стоит задуматься о крайне распространенной озабоченности массой тела), а также мучаются разнообразными психосоматическими проблемами, внезапно переживают беременность как время огромного облегчения от этих сомнений в собственной идентичности, как время освобождения и успокоения, а также хорошего физического самочувствия. Вместе с беременностью они обретают идентичность, так сказать, заложенную в чрево природой, связанную с чувством «возможности просто быть, без нужды что-либо делать».
Одна пациентка рассказывает, что ей всегда не хватало уверенности в себе, собственно, она постоянно отвергала свое тело. Она была убеждена, что не сможет иметь ребенка, для нее было немыслимо справиться с такой задачей. Когда же она забеременела, она восхищалась собственным телом, «как другим человеком» (!), она «была уверена, что оно справится». Во время беременности постоянные упреки матери, вызывающие неизменное чувство вины, совершенно на нее не действовали. Она испытывала «асболютное доверие к родам». Другая пациентка наслаждалась обеими беременностями, говорила, что испытывает «прекрасное самоощущение и ощущение собственного тела и только ради этого стоит почаще беременеть».
То же и с пациенткой Хальберштадт-Фрейда: «К огромному удивлению, она переживала беременность как радостное событие: в первый раз в своей жизни она чувствовала себя суперженщиной и суперматерью, когда с гордостью вертела своим большим животом» (Halberstadt-Freud, 1993, S. 1043).
Я предполагаю, что не только формирующийся ребенок, но и его слияние с ее собственным телом воздействуют на ощущение полноценности и хорошее самочувствие матери. И чем больше счастья это приносит, тем большую катастрофическую утрату означает рождение ребенка.
Если родители ожидают, что нерожденный ребенок подарит им идентичность, они не смогут оказать его развитию достаточную помощь и поддержку. То, что в отношении более взрослого ребенка мы называем обменом ролями, парентификацией (ср.: Hirsch, 1987, 1997), можно встретить и до зачатия, и во время беременности в связи с фантазией и ожиданием того, для чего ребенка однажды используют. Из-за своей ненадежной идентичности родители пользуются своей неотделенностью от ребенка и своей нарциссической потребностью чаще всего в отношении самого старшего ребенка, превращаясь для него в одновременно любимую и внушающую ненависть и страх материнскую фигуру. Обмен ролями связан с недостаточно развитыми (поколенческими) границами между родителями и ребенком, субъектом и объектом заботы. Желание ребенка — это обмен ролями до зачатия, т. е. оно может быть выражением ожидания, что желанный ребенок станет источником постоянного безусловного присутствия и подпитки. И беременность, и сам ребенок, соответственно, становятся «суррогатом матери» (Kahne, 1967). Лернер и коллеги (Lerner et al., 1967, S. 295) подняли вопрос о нарциссической зависимости матери, которая постоянно «должна» беременеть, от своего ребенка, который «посредством инкорпорации становится ее собственной матерью». Часто оказывается, что эта динамика передается трансгенерационно, и так же ожидаемо, что молодая женщина, которая должна была исполнять материнскую функцию в отношении собственных родителей, в свою очередь, ожидает от собственного ребенка, что он станет ей матерью, т. е. восполнит дефицит, оставленный в детстве матерью этой молодой матери.
Если ребенок призван сбалансировать ненадежную идентичность, т. е. в определенном смысле взять на себя родительские функции, амбивалентность становится особенно заметной: с одной стороны, ребенок желанен, поскольку он обещает освобождение от собственной несостоятельной и, возможно, абьюзивной матери и должен взять на себя лучшую альтернативную материнскую функцию, с другой стороны, возникает страх требований к собственной идентичности стать матерью или родителями, т. е. взрослым и ответственным.
Одна пациентка, которая начала терапию по причине серьезных проблем в отношениях и расстройства пищевого поведения, рассказала о своей сестре, которая работала стюардессой и в последние годы восемь раз забеременела от своих постоянно меняющихся партнеров, но каждый раз при этом делала аборт. Пациентка сказала, что это напоминает ей булимию, с чем мне оставалось только согласиться.
Желанный ребенок поначалу представляется чем-то положительным, обогащением и расширением «Я», но как только он становится реальным (в животе, как пища при булимии), он превращается в угрозу, представляет требование к идентичности, становится злобным «материнским объектом» и его нужно вновь исторгнуть. Дело в том, что ребенок поначалу реально требует гораздо больше, чем дает, и человек может предположить, что желание, которые он в своей фантазии направляет на ребенка, необязательно реалистичны. Бергер (Berger, 1989b, S. 251) говорит о «паническом разочаровании из-за того, что на свет родился не материнский объект, а беспомощный орущий младенец». Иногда отвержение требовательного ребенка становится сознательным хотя бы в ретроспективе, как в следующем примере пациентки, госпожи Бьянкеди, которая изначально пришла в терапию, чтобы наладить отношения со своей 15-летней анорексичной дочерью.
Ее судьба — постоянно отдавать и ничего не получать взамен, говорит она. Ее свадьба была сама по себе прекрасной, но она не могла ничего есть: «желудок просто закрылся». Она пригласила одну подругу, та пришла без подарка, зато привела свою мать и, обе ели, только и делали, что ели. Дочь постоянно приводит друзей ночевать. По утрам, когда госпожа Бьянкеди хочет пойти в ванную, какая-нибудь девочка-подросток уже стоит под душем, и все, конечно, опустошают холодильник. Дочь еще младенцем была жадной, постоянно требовала грудь, днем и ночью жадно пила молоко, а потом его выплевывала, вся квартира была перепачкана этим молоком! «Я ни в коем случае не хочу еще одного ребенка, конечно, сейчас я уже старше, но какое счастье, что мой муж сделал вазектомию, мне и собственных детей слишком много, особенно дочери, теперь мое тело наконец принадлежит мне!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]](/books/1145734/matias-hirsh-eto-moe-telo-i-ya-mogu-delat-s-nim-ch.webp)
![Стелла Грей - Владелец моего тела [litres]](/books/1063514/stella-grej-vladelec-moego-tela-litres.webp)