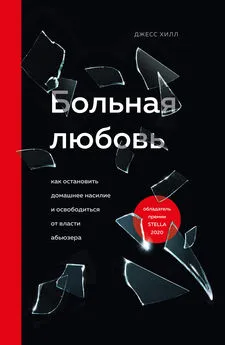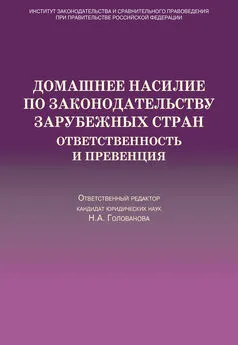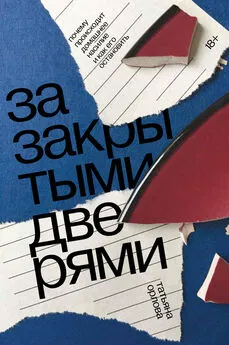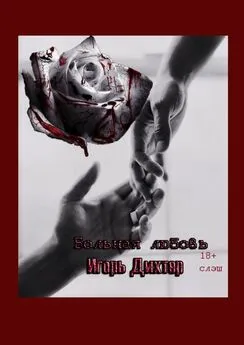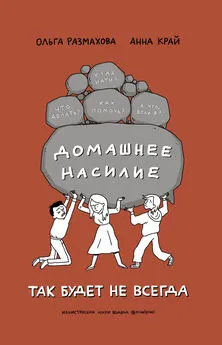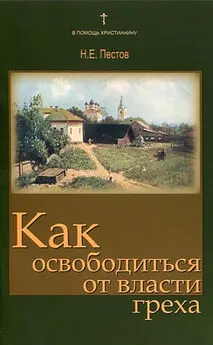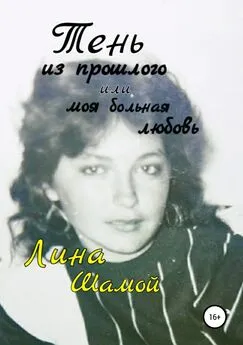Джесс Хилл - Больная любовь. Как остановить домашнее насилие и освободиться от власти абьюзера
- Название:Больная любовь. Как остановить домашнее насилие и освободиться от власти абьюзера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-115548-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джесс Хилл - Больная любовь. Как остановить домашнее насилие и освободиться от власти абьюзера краткое содержание
В этой мастерски написанной работе известная журналистка исследует проблему домашнего насилия со всех сторон. Джесс Хилл смело отвечает на неудобные вопросы о том, как и почему общество создает насильников, но не в состоянии защитить своих жертв, последовательно демонтирует ошибочную логику обвинений жертв и бросает вызов всему, что вы знали о физическом и эмоциональном насилии, приводит реальные истории пострадавших и показывает путь к выходу из кризиса.
«Больная любовь» – книга о любви, насилии и власти, которая актуальна сегодня как никогда.
Больная любовь. Как остановить домашнее насилие и освободиться от власти абьюзера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во время интервью с Рикардом-Беллом я поинтересовалась, есть ли у него специальная подготовка для работы именно со случаями сексуального насилия над детьми. «Когда проходишь обучение в области детской психиатрии, получаешь знания обо всех сторонах детского развития и любых видах влияния на детскую психику. Сюда входит и сексуальное воздействие, – ответил доктор. – Я видел много детских психологических травм, не только в половой сфере. Сексуальный абьюз – просто один из видов абьюза». В подписанных Рикардом-Беллом заключениях, которые я читала, встречались такие обороты, как «промывание мозгов» и «парентификация». Я спросила, откуда взялись термины? К каким признанным исследователям насилия над детьми он апеллирует, когда формирует свое мнение по тому или иному делу? И получила такой ответ: «Это весьма сложная область знания, в которой нет объективной информации и не проводится достоверных исследований, так что вся научная литература сводится к тому, что цитируются разные мнения уважаемых и опытных коллег и приводятся конкретные прецеденты, с которыми они сталкивались». «Не назовете ли все же кого-то конкретно?» – настаивала я. «Есть люди, которые изучали разные расстройства – к примеру, Гарднер выявил синдром родительского отчуждения. По поводу этого диагноза и его применения на практике было много дискуссий. Но в клинической практике мы часто видим детей, которые отдалились от одного из родителей под давлением другого. Думаю, эта теория в некоторых обстоятельствах может быть полезна, но не стоит прибегать к ней слишком часто. Иногда ее неверно применяют. А понятие парентификации изначально было выдвинуто одним из первых психотерапевтов, начавших работать с детьми, – Сальвадором Минухином. Он говорил о том, что некоторым детям приходится как бы усыновлять родителей, брать их под опеку. То есть о том, что взрослый и ребенок меняются ролями. Зачастую мы видим у детей постарше именно такую динамику… Они беспокоятся о родителях, покровительственно к ним относятся».
Может, мой собеседник считает, что значение теории Гарднера было несправедливо принижено? «Думаю, его идеи весьма актуальны, – оживился Рикард-Белл. – Но, наверное, не стоит вольно обращаться с термином “синдром родительского отчуждения”, нужно просто описывать клинические симптомы, которые мы наблюдаем, а затем оценивать степень отчужденности, о которой говорил Ричард Гарднер. Мне кажется, было бы полезно устанавливать, насколько «отчужден» ребенок – слабо, умеренно или сильно. Это поможет суду принять правильное решение». Позднее я написала Рикарду-Беллу электронное письмо, чтобы уточнить, использовал ли он в своих заключениях напрямую термин «синдром родительского отчуждения», на что он ответил: «Если я видел отчуждение, я описывал его, но старался избегать навешивания ярлыка, хотя иногда называть вещи своими именами бывает полезно. Но сейчас этот термин вызывает слишком много споров… Идеи Гарднера хороши как ориентир, а синдром как понятие можно употреблять, ссылаясь на соответствующую литературу. При этом стоит отметить, что данный синдром – все-таки не диагноз. В этом основная суть критики, которой он подвергался. Не стоит говорить о нем как о расстройстве, он таковым не является».
Я пыталась уточнить у Джона Фоулкса, заместителя главного судьи Семейного суда, предъявляют ли вообще какие-то особые требования к экспертам, которые готовят заключения по делам об абьюзе. Тот усмехнулся и сказал, что я неправильно ставлю вопрос. «Суть не в минимальных базовых стандартах. Если ты хочешь поставить зубные коронки, ты не обращаешься к плотнику». После чего судья Фоулкс добавил, что все эксперты должны иметь профессиональную квалификацию, чтобы их мнение было принято судом.
Однако если у психиатра нет специфических знаний, позволяющих ему разбираться именно в вопросах сексуального насилия над детьми и домашнего насилия, не означает ли это, что суд как раз и обращается «к плотнику с зубной болью»? Если человек специально не изучал особенности абьюза в семье (многие из которых контринтуитивны), как он может считать себя профессионалом в этой области и консультировать тех, кто обеспечивает торжество закона?
Я высказала это возражение судье Фоулксу, что его очень раздосадовало. «Мадам, вы слышали то, что я только что сказал?» После короткой перепалки он все же отметил: «Думаю, что минимальное требование состоит в том, чтобы у человека был диплом психолога или психиатра. А в некоторых случаях достаточно подготовки… социального работника».
Недостаток знаний у экспертов волнует как минимум одного судью, работающего в системе семейного законодательства. Федеральный судья Мэтью Майерс пишет в своем докладе 2013 года о том, как проходят проверку обвинения в сексуальном насилии над ребенком: «Те, кто готовит экспертные заключения для Семейного и федерального судов Австралии, редко имеют достаточную подготовку, необходимые знания и навыки, чтобы адекватно проводить экспертизу». [39]
Эксперты суда зачастую не имеют узкоспециализированной подготовки и мало знают об особенностях домашнего насилия.
Конфликты, которые доходят до Семейного суда, становятся для родителей серьезной проверкой на прочность. Фактически испытывается их способность бороться за собственных детей. Процесс выматывает физически и эмоционально, да и стоит дорого. Требуется много работать над построением защиты, собирать документы – на одни экспертизы и заключения специалистов могут уходить тысячи долларов. Для некоторых матерей и отцов вопрос защиты ребенка просто упирается в деньги. Если их не хватает или перекрыта возможность подавать апелляцию на неправосудный вердикт, ничего не остается, как подчиниться приговору. Далее уже не предполагается никаких формальных процедур: никто не проверяет, хорошо ли ребенку там, где суд предписал ему жить, находится ли он в безопасности во время визитов родителя, разрешенных судом. Если согласно ордеру его отправили под опеку абьюзера, такой недостаток надзора обращается дьявольской ловушкой.
Алексу было шесть лет, когда по судебному распоряжению его забрали у матери, Эмили [156], и перемесили на постоянное жительство к отцу. Это произошло после того, как женщина выступила в Семейном суде против мужа с обвинениями в сексуальном насилии. Решение было принято, несмотря на то что судья прекрасно знал: две бывшие жены этого человека также обвиняли его в домогательствах к их маленьким детям. «Предписание судьи лишило меня детства», – признался Алекс, когда мы беседовали с ним в 2015 году (к тому времени ему исполнилось 14). Сколько он себя помнит, мальчик подвергался регулярному физическому и эмоциональному абьюзу со стороны отца. По словам пострадавшего, это происходило так часто, что даже трудно выделить один конкретный эпизод.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: