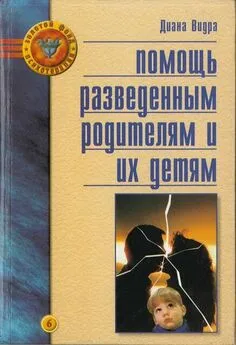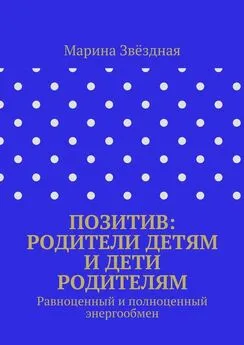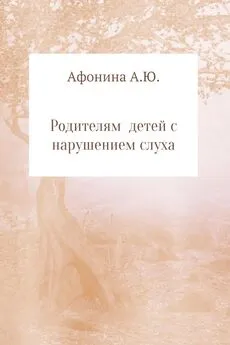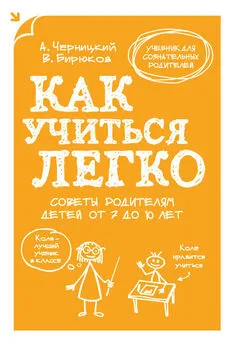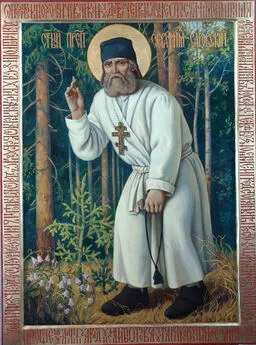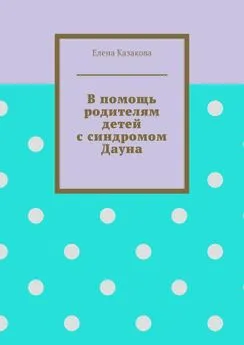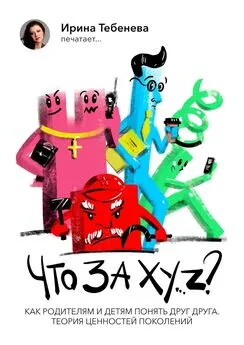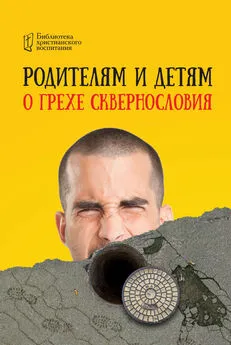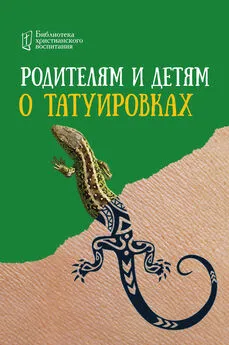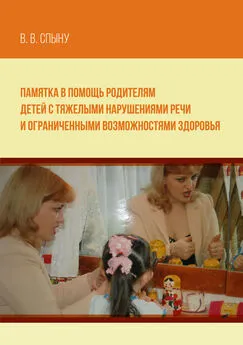Диана Видра - Помощь разведенным родителям и их детям: От трагедии к надежде
- Название:Помощь разведенным родителям и их детям: От трагедии к надежде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Института Психотерапии
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-89939-019-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Диана Видра - Помощь разведенным родителям и их детям: От трагедии к надежде краткое содержание
Эксклюзивное право издания книги на русском языке принадлежит Институту Психотерапии. Все права защищены. Любая перепечатка издания является нарушением авторских прав и преследуется по закону. Опубликовано по соглашению с автором.
Диана Видра
В наше время развод из явления чрезвычайного перешел в разряд «нормы». Общественное мнение реагирует на него двояко. Оно, признавая право на освобождение от ставшего невыносимым супружества, в то же время осуждает развод за причинение душевного вреда детям.
Как сделать, чтобы развод и его последствия не причиняли горя детям и боли родителям, чтобы неурядицы, возникающие после развода, не тянулись годами? Проблемы детей невозможно решить отдельно от проблем родителей, ведь известно, что несчастный человек не может никого сделать счастливым.
В этой книге родители и психологи найдут ответы на тревожащие их вопросы. Она даст возможность большинству матерей и отцов избежать бед, которые потом становятся непоправимыми, поможет понять свои собственные чувства, а значит получить над ними власть и не позволять им слепо руководить собой.
Книга адресована психологам, педагогам, социальным работникам и, в первую очередь, родителям, которые хотят помочь себе и своим детям.
ISBN 5-89939-019-0
© Диана Видра, 2000
© Издательство Института Психотерапии, 2000
Помощь разведенным родителям и их детям: От трагедии к надежде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Редко развод, образно говоря, подобен грому средь ясного неба, т. е. не имеет своей кризисной предыстории. И супружеский кризис очень редко остается скрытым от детей, т. е. он очень редко не оказывает влияния на переживания ребенка и на его душевное развитие». Ссоры родителей, их ревнивая борьба за ребенка и вытекающие из этого душевные конфликты отнимают у многих детей способность более или менее стойко принять травму развода. Развод лишь усиливает их страхи и душевную неуравновешенность. Большинство этих детей к этому моменту уже прошло часть пути невротического развития, независимо от того, заметны ли эти нарушения окружающим или нет.
Итак, вернемся к вопросу: «Развод. Да или нет?» Мы видим, что значительная часть драматических реакций детей на разрыв родителей, как и дальнейшее нарушение их развития, основывается — в психологическом аспекте — на их развитии до развода. А не лучше ли было бы, чтобы такая конфликтная семья распалась уже раньше? Во всяком случае при том условии, что родители в дальнейшем, после развода, сумеют обеспечить ребенку необходимые условия для его нормального развития.
Есть, однако, дети, у которых первые пять-шесть лет жизни протекали достаточно счастливо, и Себастьян относится как раз к ним. Для него развод родителей оказался ошеломляющей неожиданностью. Родители были счастливы в браке, и ничто не предвещало беды. Мальчику исполнилось семь лет, когда отец его на одном семинаре по повышению квалификации влюбился в привлекательную разведенную деловую женщину. С нею, по его словам, пережил он свою «новую весну». Эта женщина казалась ему осуществлением его жизненной мечты: их влекло друг другу сексуально, их объединяли профессиональные и духовные интересы и обоюдное признание успехов друг друга. Какой контраст представляли эти отношения к супружеской повседневности и, прежде всего, по отношению к вялым сексуальным отношениям с холодноватой женой! Жену его, в отличие от новой подруги, мало интересовало, чем занимался ее супруг, более того, она проявляла явное пренебрежение к его работе, упрекая мужа в том, как мало времени он уделяет семье. Теперь стало ему ясно, что эту недооценку жены бессознательно воспринимал он как недооценку его мужского достоинства. И вот она была здесь — женщина, сама добившаяся успеха, ценившая его и восхищавшаяся им, как никакая другая до сих пор, и она дала ему почувствовать, как это хорошо быть желанным мужчиной. Но все это в общем не изменило его привязанности к семье — к сыну, да и, в общем, к жене, которую он, в общем, тоже «любил по-своему». Однако возникшая вдруг новая любовь была слишком велика, чтобы остаться просто приключением. Через некоторое время жене стало все известно, и она незамедлительно подала на развод. Все попытки примирения со стороны мужа и даже его готовность прекратить связь не возымели успеха — слишком велика была обида, которую он ей нанес.
Себастьян к этому времени рос здоровым, хорошо развитым ребенком, он восхищался своим отцом и нежно любил свою мать. Можно сказать, субъективные условия для преодоления боли развода были достаточно удачны. Но в этой ситуации родители, и прежде всего мать, были совершенно не в состоянии создать те объективные условия, которые дали бы возможность оказать ребенку столь необходимую «неотложную помощь», о которой говорилось в предыдущих главах. Для матери полный разрыв с мужем казался единственным путем к сохранению самоуважения, хотя она, конечно, продолжала его любить или продолжала любить то, что было когда-то между ними. Поэтому ей необходимо было защитить себя от этой любви и от страхов перед неизвестным будущим. Наибольшая опасность исходила от соблазнительных попыток мужа к примирению, поэтому она стала избегать всякого с ним контакта. Но это было бы еще ничего, ведь есть много разведенных семей, где матери, не общаясь с разведенным супругом, тем не менее не препятствуют контакту детей с отцом. Но это возможно лишь в том случае, если мать не испытывает страха, предоставляя ребенку такую свободу. Матери Себастьяна было это не под силу. «Для того чтобы не поддаться штурмам мужа, уговорам друзей, своей собственной любви и чувству вины по отношению к ребенку, она должна была постоянно внутренне оживлять картину предательства мужа и своего собственного унижения, и в известной степени, конечно, бессознательно, ее культивировать». Чем ужаснее была картина, которую она себе рисовала, тем увереннее чувствовала она себя: такому (исключительно злому) человеку нельзя больше доверять и уж конечно любить такого просто невозможно. А значит, нет необходимости испытывать укоры совести, чтобы отнять ребенка у «такого» отца. Эта позиция таит в себе огромную опасность для продолжения отношений ребенка с ненавистным и «заслужившим» ненависти отцом. Ведь от него исходит опасность, перед которой постоянно надо быть начеку. Как же можно доверить ребенка «такому человеку»?! С позиции отца подобные ситуации выглядят так: «мегера-мать отравляет контакт между ним и сыном». Но эта злость матери в общем-то является не чем иным, как непосредственным выражением материнской сути: мать защищает свое дитя от чудовища. К сожалению, ей непонятно, что в чудовище превратила его она сама: чтобы облегчить себе разрыв с любимым человеком и освободиться от собственного чувства вины перед ребенком.
В данном случае это выглядело так, словно мать не только в своих интересах, но и «в интересах ребенка» мешала его встречам с отцом. Но ей было невдомек, что таким образом она создавала лишь новую угрозу своему и без того нестойкому душевному равновесию: Себастьян тосковал по отцу, ему казалось, он потерял его навсегда, и эта печаль чередовалась с приступами гнева против матери. В принципе это вполне нормальные реакции ребенка в подобной ситуации, но для матери они были невыносимы. После мужа она теперь боялась потерять и сына. А ведь ни в чем не нуждалась она в тот момент больше, чем в ребенке, выказывающем ей преданную любовь. Борясь за эту любовь, она делала то, что в подобных ситуациях, к сожалению, делает большинство родителей: она «открывала ребенку глаза на отца». Сама того не понимая, что разрушала таким образом центральную часть идентификации мальчика. Разрушая в нем образ отца, она разрушала представление ребенка о себе самом! Ведь у мальчика один отец и на основе своего представления о нем будущий мужчина строит самого себя. Так и Себастьян формировал свое видение себя на основе своего отождествления с любимым, обожаемым отцом. В результате мальчик попал в неразрешимый «конфликт лояльности» между своими чувствами к отцу и к матери. «Если он боролся за отношения с отцом и побеждал мать, то он чувствовал себя хорошо и оставался «живым». Но это была «жизнеспособность» за счет матери, и он бессознательно спрашивал себя, а переживет ли ее любовь такую борьбу. Ранимость матери... зародила в нем невыразимый страх перед властью собственной страсти. Попытки предохранения отношений с нею тоже кончались провалом». Стоит ли говорить о том, что успехи мальчика в школе снизились, он регрессировал, как все дети в подобных ситуациях, в нем возрастала зависимость, он проявлял потребность в контроле, на что мать отвечала растерянностью и гневом, считая такое поведение ребенка агрессивным актом, направленным против нее лично. Но агрессивность была лишь одной из сторон конфликта. К этому добавилось соблазнительное приглашение матери быть счастливым с нею одной, поскольку она готова была теперь безраздельно дарить свою любовь только ему. Так в мальчике активизировались старые, уже было успешно преодоленные путем идентификации с отцом, «эдиповы» стремления, что придало разводу дополнительное значение устранения отца. У Себастьяна стали расти страхи, которые неизбежно приносит с собой «эдипова идиллия». Мальчик постепенно терял самого себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: