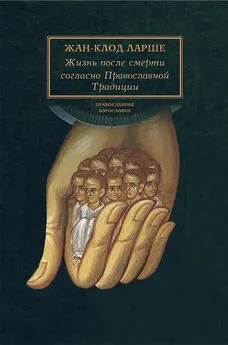Михаил Селезнев - Текст Писания и религиозная идентичность: Септуагинта в православной традиции [научная статья]
- Название:Текст Писания и религиозная идентичность: Септуагинта в православной традиции [научная статья]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РАНХиГС
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Селезнев - Текст Писания и религиозная идентичность: Септуагинта в православной традиции [научная статья] краткое содержание
Текст Писания и религиозная идентичность: Септуагинта в православной традиции [научная статья] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Парадоксальное, на первый взгляд, отношение Оригена и византийских Отцов к еврейскому тексту и к ревизиям объясняется тем, что, в отличие от многих православных полемистов Нового Времени, их заботили не проблемы текстологии, а исключительно практические, т.е. педагогические и пастырские, соображения. Чтение, противоречащее догмату (напр., Исайя 7:14 в еврейском тексте и в ревизиях), должно быть отвергнуто. А чтение, которое может быть полезным для проповеди (напр., Пс 8:3 в переводе Аквилы), заслуживает цитирования и комментирования. В основе экзегетического максимализма лежит экзегетический практицизм.
До Иеронима христианские экзегеты крайне редко позволяли себе предположить, что Семьдесят толковников не вполне точно перевели свой еврейский оригинал. Лишь у Оригена можно найти несколько примеров. Так, комментируя мессианские места в Пс 2:1-2, 42:3, он отмечает, что здесь еврейское «будущее» время передается в LXX греческим прошедшим. По его мнению, толковники передали здесь пророчества о Христе как нечто уже совершившееся, поскольку Бог, во всеведении Своем, знает все изначально. Вновь мы видим подход не текстолога, а проповедника: различие между греческим и еврейским текстами дает повод напомнить читателю о всеведении Бога [8] Kamesar, A. Jerome, Greek Scholarship and The Hebrew Bible; A Study of the Quaestiones Hebraicae in Genesim, p. 14.
.
С появлением Вульгаты (перевод был выполнен Иеронимом в 390—405 гг.) возникла совершенно новая ситуация: теперь каждый носитель латинского языка мог лично сверить старый латинский перевод Ветхого Завета (сделанный в первые века н.э., по LXX) с новым переводом Иеронима. Различие было огромным, и оно отнюдь не было ограничено мессианскими пассажами.
В трактате «О граде Божьем», который появился вскоре после Вульгаты Иеронима (413—427), Августин попытался примирить эту ситуацию с традиционным представлением о богодухновенности LXX. Пересказав легенду о Семидесяти Толковниках ( «О граде Божьем» 18, 43), Августин формулирует концепцию «двойной богодухновенности»: «Тот же самый Дух, который был в пророках, когда они говорили, был и в Семидесяти, когда они переводили. Конечно же, этот Дух с божественной властью мог говорить и нечто иное, — подобно тому, как и сам пророк мог сказать сначала одно, потом другое… Все, что в еврейских кодексах есть, а у Семидесяти нет, — все это Дух Божий благоволил сказать не через них, а через пророков. Все же, что есть у Семидесяти и чего нет в еврейских кодексах, тот же самый Дух предпочел высказать через них, а не через пророков, показывая таким образом, что те и другие были пророками».
В качестве своего рода «test case» Августин берет стих из книги Ионы 3:4, где пророк предсказывает ниневитянам, что их город скоро будет разрушен — через 40 дней по еврейскому тексту, но через 3 дня по LXX. Несмотря на уважение к LXX, Августин пишет: «если меня спросят, что все-таки сказал Иона, я отвечу: скорее, то, что читается в еврейском тексте». Однако же, продолжает он, если возвыситься над земной историей, то греческий и еврейский тексты окажутся оба истинными. Ниневия, согласно Августину, пророчески символизирует Церковь, образованную из язычников; «три дня» LXX символизируют воскресение Христа через три дня после распятия, а «сорок дней» еврейского текста — вознесение на сороковой день после воскресения.
Выдвинутая Августином концепция «двойной богодухновенности» была порождена той специфической ситуацией, в которой оказалась латинская Церковь, когда после появления Вульгаты в латиноязычном христианском мире стали сосуществовать две версии Ветхого Завета, сделанные одна — с греческого текста, другая — с еврейского. Эта концепция Августина резко расходилась с раннехристианским представлением о том, что богодухновенность LXX заключается как раз в ее точном совпадении с еврейским текстом.
У греческих Отцов такой проблемы не было: чтения гебраизирующих ревизий частично вошли в послегексапларную рукописную традицию греческой Библии, иногда отражались на полях библейских рукописей, но не представляли такой вызов LXX, как Вульгата в латинском мире. Августиновская концепция «двойной богодухновенности» в восточном (православном) контексте оказалась ненужной и не востребованной. Так было вплоть до недавнего времени, когда ряд православных Церквей, прежде всего в диаспоре, оказался в той же ситуации, что и латинская Церковь времен Августина: в ситуации сосуществования нескольких авторитетных библейских переводов, из которых часть основана на MT, часть — на LXX.
К девятому веку Вульгата стала стандартной Библией западной Церкви. Разрыв между византийской Церковью и латиноязычной западной Церковью неизбежно должен был придать противостоянию LXX и Вульгаты дополнительное измерение. Удивительно, однако, что прошло несколько столетий после разрыва, прежде чем православные полемисты стали включать Вульгату с ее Hebraica Veritas в список католических отступлений от истины. Впервые это случилось уже после падения Византии и было спровоцировано атакой западных гуманистов на LXX.
В обширном комментарии на трактат Августина «О граде Божьем» Иоанн Людовик Вивес подверг сомнению подлинность «Послания Аристея». Комментарий вышел на латинском языке в Базеле в 1522 г. и, видимо, вскоре достиг Московской Руси, где Максим Грек написал «Слово против Иоанна Людовика». Среди других «заблуждений» Вивеса Максим обличает и его сомнения в Семидесяти толковниках, переадресовывая свой упрек уже и самому Иерониму: «как ты, отче Иерониме, можешь переводить лучше, не будучи причастен той же благодати Божественного Утешителя, какую имели они?.. Не следует доверяться еврейским книгам, которые нарочно испорчены богоборными иудеями» [9] Сочинения преподобного Максима Грека. T. 3. Казань, 1862. C. 203-226.
.
Еще яростнее споры о достоинстве LXX вспыхивают в Москве в конце XVII — начале XVIII вв., когда сильное влияние польской и киевской учености вызвало противодействие «латинствующим» богословам со стороны филэллинистов. Наиболее ярким памятником этих споров стало анонимное «Обличение на гаждатели Священнаго Писания Библии, преведеннаго из еврейскаго на еллинский диалект богомудрыми мужи, Духа Святаго и мудрости наполненными, 72-мя преводницы». «Обличение…» содержит не только апологию LXX, но и разбор целого ряда мест, где Иероним «погрешает», переводя Библию «с еврейских уже растленных книг». Острие полемики, впрочем, направлено не против евреев, а против католиков и «латинствующих».
Наиболее известный из переводов Библии, выполненных в византийском мире — перевод на славянский, осуществленный свв. Кириллом и Мефодием и их учениками. В основе ветхозаветной части перевода лежали византийские списки LXX. На протяжении столетий славянская Библия постоянно редактировалась, сверяясь с греческими рукописями. Но не только с греческими [10] Стандартное введение в историю славянской Библии: Алексеев А.А. Текстология Славянской Библии. СПб: Дмитрий Буланин, 1999. См. также Bruni, A.M. (2016) “Old Church Slavonic Translations”, in A. Lange (ed.) Textual History of the Bible, Vol. 1a, pp. 393-407. Leiden: Brill.
. Неоспоримы следы влияния еврейской традиции на средневековые славянские библейские манускрипты [11] Алексеев А.А . Русско-еврейские литературные связи Киевской эпохи. Результаты и перспективы исследования // Кенааниты: Евреи в средневековом славянском мире / Под ред. В. Московича, М. Членова, А. Торпусмана. Москва—Иерусалим: Мосты культуры, 2014. C. 166-182; Грищенко А.И . Языковые и литературные контакты восточных славян и евреев в средние века: итоги и перспективы изучения // Studi Slavistici XV. 2018. №1. C. 29-60.
. В последующем эти следы исчезают, и на печатных изданиях уже не сказываются. Зато начиная с Геннадиевской Библии 1499 г. сильнейшее влияние на славянскую Библию оказывает Вульгата.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Селезнев - Текст Писания и религиозная идентичность: Септуагинта в православной традиции [научная статья]](/books/1072965/mihail-seleznev-tekst-pisaniya-i-religioznaya-identi.webp)

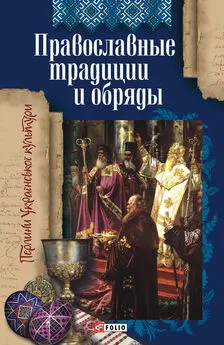

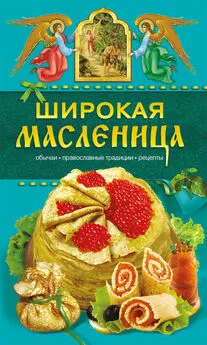


![Елена Рождественская - Феномен тахарруш как коллективное сексуальное насилие [научная статья]](/books/1069553/elena-rozhdestvenskaya-fenomen-taharrush-kak-kollekti.webp)
![Дамир Мухетдинов - Трансформация парадигмы перевода Корана на латинский язык: между полемикой и наукой [научная статья]](/books/1146935/damir-muhetdinov-transformaciya-paradigmy-perevoda.webp)