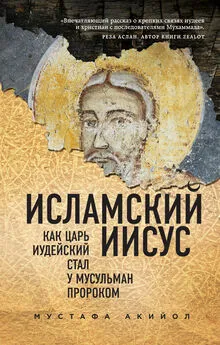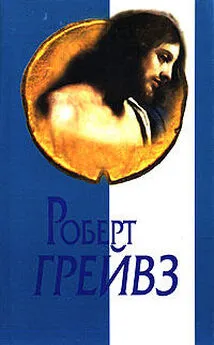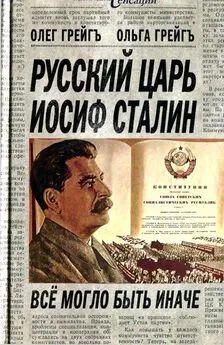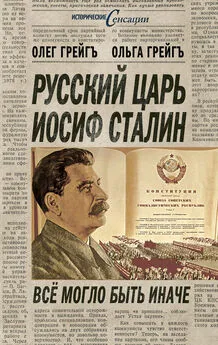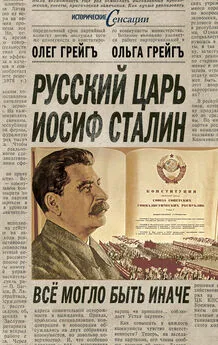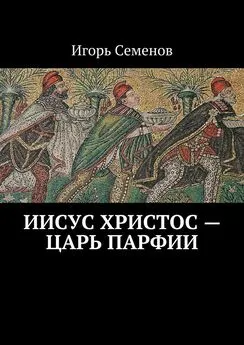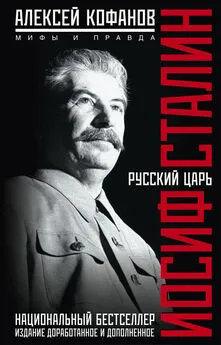Мустафа Акийол - Исламский Иисус. Как Царь Иудейский стал у мусульман пророком
- Название:Исламский Иисус. Как Царь Иудейский стал у мусульман пророком
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-099430-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мустафа Акийол - Исламский Иисус. Как Царь Иудейский стал у мусульман пророком краткое содержание
Исламский Иисус. Как Царь Иудейский стал у мусульман пророком - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иисус из Дидахе – прежде всего Раб Божий, великий эсхатологический учитель, который скоро явится вновь, чтобы собрать рассеянных членов своей церкви и повести их в Царство Божье. Идея искупления в этом древнейшем памятнике иудео-христианской жизни вовсе отсутствует. Невозможно найти в нем намеков ни на жертвенный характер смерти Иисуса, ни на Павлово символическое воспроизведение этой смерти в ритуалах крещения и евхаристии. Нет нужды говорить, что и Иоанновой идеи вечного творческого Логоса здесь не найти [142] Geza Vermes, Christian Beginnings: From Nazareth to Nicaea, AD 30-325 (London: Penguin Books, 2013).
.
Правда, в Дидахе содержится наставление «крестить во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Очевидно, это аллюзия на учение о Троице, совсем не-иудейское и определенно христианское. Однако некоторые ученые подозревают, что эту троичная формула крещения, по-видимому противоречащая другому стиху Дидахе, где говорится просто о «крещении во имя Господне», может быть поздней вставкой «редактора-переписчика» [143] Aaron Milavec, The Didache: Faith, Hope, & Life of the Earliest Christian Communities, 50–7 °C.E. (Mahwah, NJ: Paulist Press, 2003), p. 270–272.
.
Еще один иудео-христианский источник, написанный через три столетия после Дидахе – «Псевдо-Климентовы писания», позволяющие нам глубже взглянуть на различие между иудео-христианством и Павловым христианством. Это серия примерно из двадцати книг, которую часто называют «религиозным романом» или просто «романом», согласно современным литературоведческим жанровым критериям. Среди этих книг особенно любопытен текст под названием «Kerygmata Petrou» или «Проповедь Петра», составленный в форме послания от апостола Петра не кому иному, как Иакову Праведному.
В этом послании Петр борется с неким Симоном Волхвом (или Магом): этот Симон изображен как мошенник, внедрившийся в движение Иисуса лишь для того, чтобы его развратить. Разумеется, Симон Волхв действует и в Деяниях Апостолов: там это самаринский обманщик, изгнанный учениками Иисуса из своих рядов. Однако, читая «Проповедь Петра», трудно не прийти к выводу, что под видом Симона Волхва изображен здесь не кто иной, как сам Павел [144] Согласно мнению некоторых ученых, «не может быть сомнения, что под маской Симона Волхва здесь изображен Павел». [Graham Stanton, Studies in Matthew and Early Christianity (Tubingen, Germany: Mohr Siebeck, 2013), p. 430.]
. Ибо Петр отвергает мысль, что «наш Иисус» мог явиться этому человеку в видении, лично и отдельно, и спрашивает его: «Как можем мы тебе верить, когда ты говоришь, что он явился тебе? И как это он явился тебе, если проповедуешь ты нечто, противоположное его учению?» [145] Clementine Homilies, Homily XVI, Chapter XIX, “Opposition to Peter Unreasonable,” in James Donaldson and Alexander Roberts, Ante-Nicene Fathers, Vol. VIII: e Twelve Patriarchs, Excerpts and Epistles, e Clementina, Apocrypha, Decretals, Memoirs of Edessa and Syriac Documents, Remains of the First Ages, Amazon Digital Services LLC, 2012 (originally published by Edinburgh, UK: T. & T. Clark, between 1867 and 1873), p. 323.
В этом же тексте Петр предостерегает против «лжепророков, и лжеапостолов, и лжеучителей», которые говорят во имя Христа, но «исполняют волю бесовскую». Затем он призывает собратьев-верующих: «Соблюдайте величайшую осмотрительность и не доверяйте ни одному учителю, если не принесет он из Иерусалима свидетельство от Иакова, брата Господня, или от тех, кто придет после него» [146] Там же, Книга IV, глава XXXV, “Лжеапостолы,” с. 142.
.
Большинство ученых не верят, что этот текст IV века действительно принадлежит Петру, ученику Иисуса, жившему в I веке. Но, так или иначе, в нем слышны отзвуки острого напряжения между паулинистами и «иудействующими» в раннехристианскую эпоху.
Здесь можно задать вопрос: стоит ли считать «еретиков»-иудео-христиан И, III и IV веков прямыми наследниками Иерусалимской церкви, сразу после ухода Иисуса возглавленной Иаковом Праведным? Христианские авторы часто отвечают на этот вопрос отрицательно. Они скорее склонны предполагать более позднюю «обратную иудаизацию», полагая, что некие христиане из иудеев более поздних времен отошли от христианской истины и без всяких на то прецедентов в Древней церкви снова начали принимать иудейские идеи и практики [147] См. Samuel Zinner, The Abrahamic Archetype, p. 124, прим. 18.
. Некоторые даже называют само иудео-христианство «изобретением ученых» [148] О мнении, что иудео-христианство – миф, см.: Joan Е. Taylor, “The Phenomenon of Early Jewish-Christianity: Reality or Scholarly Invention?” Vigiliae Christianae 44, № 4 (декабрь 1990): 313–334.
.
Джеймс Д. Г. Данн, видный богослов и служитель Шотландской церкви – среди тех, кто считает теорию «обратной иудаизации» неубедительной. Напротив: «Еретическое иудео-христианство позднейших столетий, – говорит он, – возможно, имеет больше прав называться наследником христианства древнейшего, чем какое-либо иное выражение христианства». Позднейшие иудео-христиане, особенно евиониты, добавляет он, были лишь более непримиримы в своем отвержении Павла, ибо к тому времени Павлово христианство уже развилось в несомненно антииудейскую веру [149] James D.G.Dunn, Unity and Diversity in the New Testament: An Inquiry into the Character of Earliest Christianity (London: SCM Press, 2006), p.263, 264.
.
При взгляде в прошлое кажется поразительным, что именно видение Павла, человека, который никогда не видел и не слышал Иисуса земными глазами и ушами, определило для мира, кто есть Христос, и заложило основы величайшей из существующих религий. Разумеется, эта ирония судьбы – не причина предполагать, что в своих взглядах на Христа Павел был неискренен (обвинение, которое бросали ему на протяжении столетий соперники-богословы). Этот человек посвятил всю свою жизнь распространению Благой вести, как он ее понимал, несмотря на все препятствия и опасности, – и у нас нет причин полагать, что он делал это по каким-либо циничным мотивам.
Еще более нелепо видеть в миссии Павла иудейский заговор, как утверждали иные мусульманские авторы в классическую эпоху и даже в наши дни [150] О мусульманской полемике против Павла см.: Patrick Gray, Paul as a Problem in History and Culture (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2016), p. 41–47. Среди мусульманских полемистов относительно лучше других понимает Павла ученый XI века Абд аль-Джаббар, обвинявший Павла в том, что тот «вступил в религию римлян» (там же, р. 44).
. В сущности, если возможна разумная исламская критика Павла, она должна бы, напротив, упрекать его в том, что пути его слишком разошлись с путями иудаизма [151] Впрочем, если Павел был таким, как описывают его Джеймс Данн и другие сторонники «нового взгляда», то исчезают основания даже для такой критики. Ибо Данн доказывает, что Павел не отвергал иудейский закон, как решили позднее Лютер и другие протестанты, – он отверг лишь иудейский национализм, полагающий, что вне иудейского народа нет спасения. Проблема, говорит Данн, состояла в том, «доступна ли благодать Божья только Израилю – или же должна пролиться через Израиль и на другие народы» [Dunn, New Perspective on Paul (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans) 2005, p. 170]. В этом случае универсализм Павла созвучен универсализму ислама.
. Однако вклад его в западную и, в конечном счете, мировую культуру, с ее вниманием к категории «веры» как таковой, должен быть признан всеми. Ибо именно это Павлово внимание к «вере», как признал один критик, «ввело “западные” умы в ту интеллектуальную и эмоциональную вселенную, что на современном языке именуется “личной совестью и убеждениями”» [152] Замечание о Павле исходит от Абеля Мордехая Библевича, который, среди прочего, критикует «антииудейские настроения Павла», однако признает, что он «открыл для нас богатую и плодотворную вселенную личной веры». Это очень важно, поскольку до Павла «для римлян I века вера (т. е. личные убеждения индивидуума) была в значительной степени неизвестным и неоцененным измерением человеческого когнитивного и религиозного опыта. Личные убеждения, как религиозные, так и светские, для римских властей не имели никакого значения». В такой понятийной вселенной «акцент на вере, сделанный Павлом, должен был произвести революцию. Понимание, что именно вера каждого отдельного человека есть та сцена, на которой разворачивается драма спасения, должно было необыкновенно возвышать дух в мире, где личная свобода каждого, независимо от положения в обществе, была очень ограничена». [Abel Mordechai Bibliowicz, Jews and Gentiles in the Early Jesus Movement: An Unintended Journey (New York: Palgrave Macmillan, 2013), p. 35–36.]
.
Интервал:
Закладка: