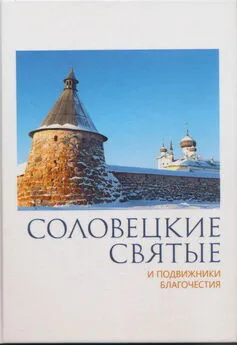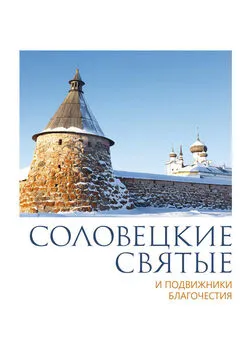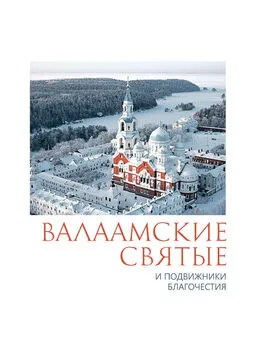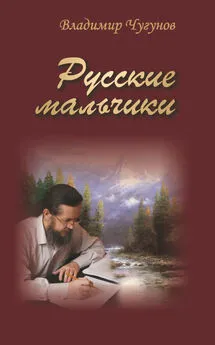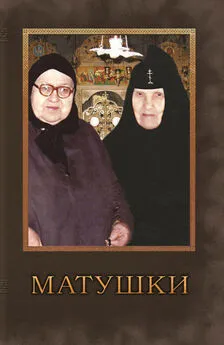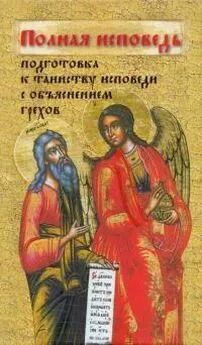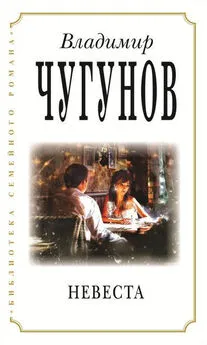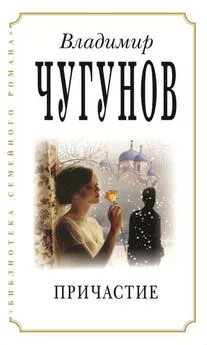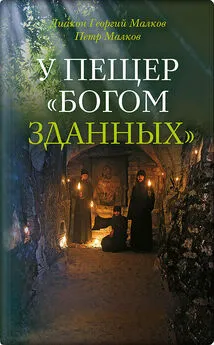Владимир Чугунов - Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия
- Название:Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Родное пепелище»0a919b56-95ea-11e6-b088-0cc47a52085c
- Год:2012
- Город:Нижний Новгород
- ISBN:978-5-98948-047-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Чугунов - Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия краткое содержание
Чугунов Владимир Аркадьевич родился в 1954 году в Нижнем Новгороде, служил в ГСВГ (ГДР), работал на Горьковском автозаводе, Горьковском заводе аппаратуры связи им. Попова, старателем в Иркутской, Амурской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Пас коров, работал водителем в сельском хозяйстве, пожарником. Играл в вокально-инструментальном ансамбле, гастролировал. Всё это нашло отражение в творчестве писателя. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза писателей России. Автор книг прозы: «Русские мальчики», «Мечтатель», «Молодые», «Невеста», «Причастие», «Плач Адама», «Наши любимые», «Запущенный сад», «Буря», «Провинциальный апокалипсис» и других. Произведения Владимира Чугунова переведены на иностранные языки. Автор постоянно принимает участие в Международных книжных ярмарках Европы и России.
Лауреат Горьковской литературной премии, Всероссийской литературной премии им. Александра Невского (Санкт-Петербург), обладатель Грамоты Патриаршей литературной премии, финалист «Бунинской литературной премии». Неоднократный лонглистер литературной премии «Ясная Поляна», «Золотой Дельвиг» и других.
Аввами на Востоке называли духовных отцов (авва – отец, в переводе с греческого). Эта книга включает в себя три очерка о «русских аввах» – Святителе Игнатии (Брянчанинове), праведном Иоанне Кронштадтском, профессоре догматического богословия Парижского Православного Богословского института протоиерее Сергии Булгакове, – оказавших огромнейшее влияние своим учением, своею праведностью, своею любовью на многих и многих своих современников. Образ жизни и учение этих святых и подвижников благочестия не утратили своего значения и по сей день, и, без всякого сомнения, будут руководствовать к спасению последующие поколения. Эта книга вынашивалась автором на протяжении тридцати лет. Это и радость, и боль его сердца, и в то же время, завет и пастырское слово любви ко всем своим детям по плоти и по духу.
Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Исчезла полиция, но вскоре начали ловить и водить переодетых городовых и околоточных, с диким и гнусным криком толпа провожала их как затравленных зверей.
Улицы всё более переполнялись народом.
На следующий день около манежа уже появились военные части, и неслись какие-то автомобили, на которых появились сразу зловещие длинноволосые типы с револьверами в руках и соответствующие девицы.
Кремль был взят почти без одного выстрела, и к вечеру Москва оказалась в руках революционной власти.
Эти дни улицы были полны народом, который шёл с гнусными революционными песнями на гнусные свои демонстрации. Временами слышались всплески – это долавливали городовых.
Объявлено было «благодарственное Господу Богу молебствие», шли войска на парад, и там было кощунственно и гнусно.
Все радовались, все ликовали, красный Дионис ходил по Москве и сыпал в толпу свой красный хмель. Всё было в красном, всюду были гнусные красные тряпки, и сразу же появились не то немцы, не то большевики, с агитацией против войны.
У меня была смерть и на душе. Революция была мне постыла и отвратительна. Я хорошо помнил революцию 1905 года, чтобы не предаваться ни в какой мере обаянию…
И, вместе с тем, я любил царя и изнывал в тревоге за царскую семью. Однако был момент малодушия, когда я захотел выдавить из себя радость, слиться с народом в его «свободе». Не хватило характера презирать и негодовать до конца. Я шёл по Остоженке в народном шествии в день парада и пьянил себя. Однако этого хватило на полчаса, и ничего не вышло, кроме омерзения. Я видел и чувствовал, что пришёл красный хам, что жизнь становится вульгарной и низкой и нет уже России. А между тем крутом всё сходило с ума от радости, и как я ни сторонился в эти страшные дни, но и мне приходилось попадать в круги профессионально радующихся. Так, например, в кругу профессоров и студентов – демонстративно хоронили в красном гробу одну жертву революции – произносились ликующие речи, делались соответствующие обещания, распространялся «заем свободы», брехня Керенского ещё не успела опостылеть, вызывала восхищение (а я ещё за много лет по отчетам Думы возненавидел этого ничтожного болтуна).
И я мрачным Гамлетом, хотя, конечно, не обнаруживавшим своего безочарования (хотя и молчание на фоне общего исступления было достаточно красноречиво), проходил среди этих сумасшедших.
Была Крестопоклонная неделя Великого Поста. Об этом, конечно, все забыли, а у меня были самые тяжёлые предчувствия от этого символического совпадения.
Однако вся мысль и забота (увы! бессильная и бездейственная!) была о нём, о помазаннике. Что с ним? Удержится ли он на престоле? Если да, то можно мириться со всякими ответственными министерствами (так тогда казалось, в страхе за него, быть может, и неверно казалось).
Затем поползли слухи о вынужденном отречении: я и этого ждал, потому что знал сердцем, как там, в центре революции, ненавидели именно царя, как там хотели не конституции, а именно свержения царя, какие жиды там давали направление. Всё это я знал вперёд и всего боялся – до цареубийства включительно с первого же дня революции, ибо эта великая подлость не может быть ничем по существу, как цареубийством, которая есть настоящая чёрная месса революции.
И вот понеслась весть за вестью: царь отрёкся.
Одновременно с этим в газетах появились известия об «Александре Феодоровне» (по новой жидовской терминологии, с которой нельзя было примириться): больны корью царевны, болен наследник и она под арестом.
Слёзы, бессильные и последние, душили при чтении, а газетчики кричали по улице гнусные слова: «Арест Романова».
Государь был действительно арестован и отвезён в Царское Село, там соединён с семьёй. Стали доходить только отрывистые сведения о нём, хотя поражало, что во всём этом море лжи, клеветы и ругани он выходил прекрасным и чистым. Ни единого неверного, неблагородного, нецарственного жеста, такое достоинство, такая покорность и смирение.
Подходила Пасха.
Мысль о них: что с ними, как? Появилось сведение, что они говели, причащались, что к ним допущен священник. Рассказывалось, что государь работает в саду и как оскорбляют его хамократы. И, однако, оглушающий поток событий нёсся с такой стремительностью, что заставлял забывать о царскосельских узниках до новых слухов или известий».
7
В это время с Булгаковым происходит то, что некогда произошло с апостолом Павлом – Савл превращается в Павла. Однако если превращение Павла было вызвано чудесным явлением Божественной славы в ослепительном сиянии и небесном гласе вразумления, обращение к пути предков Булгакова было не только следствием титанической работы его пытливого ума и души, но и «левитская кровь», как он любил выражаться. Сам он так повествует об удивительном и знаковом в своей жизни событии:
«Вернувшись к вере в «личного» Бога (вместо безличного идола прогресса), я поверил во Христа, Которого в детстве возлюбил и носил в сердце, а затем и в «Православии», меня повлекло в родную церковь властно и неудержимо. Однако прошли ещё годы, в которые эта мысль и желание о возвращении в дом Отчий во мне оставались ещё бессильны, сокровенным страданием было оплачиваемо моё возвращение. Оно совершалось, конечно, не только в сердце и в жизни, но и в мысли, из социолога я становился богословом (благодарно отмечу духовное влияние Достоевского и Владимира Соловьёва в эти годы). Но одновременно в душе поднималось и желание, которое тайно тоже никогда не угасало, полного уже возвращения в отчий дом, с принятием священства.
В эти годы я называл себя иногда в беседе с друзьями «изменником алтаря». Мне становилось недостаточно смены «мировоззрения», «левитская» моя кровь говорила всё властнее, и душа жаждала священства, рвалась к алтарю».
Друг Булгакова, князь Евгений Николаевич Трубецкой однажды даже сказал ему, что по его ощущению он «рождён в епитрахили».
«Однако на этом пути стояли разные препятствия. Первое из них – это привычки и предубеждения среды и даже близких. Если там, откуда я ушёл, в среде «духовной», принятие сана в известный момент жизни являлось шагом само собою разумеющимся и бесспорным, то в среде интеллигентской, где безбожие столь же естественно подразумевалось, принятие священства, по крайней мере, в состоянии профессора Московского Университета, доктора политической экономии и прочее являлось скандалом, сумасшествием или юродством и, во всяком случае, самоисключением из просвещённой среды. На это надо было решиться, и это тоже потребовало времени. Впрочем, не знаю, как бы я сам справился со всеми личными трудностями, но здесь меня явно поддерживала рука Божия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: