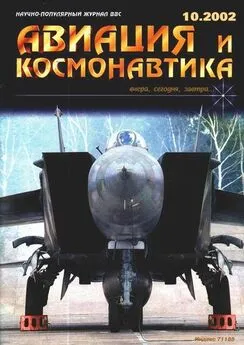Авиация и космонавтика 2002 10
- Название:Авиация и космонавтика 2002 10
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2002
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Авиация и космонавтика 2002 10 краткое содержание
Авиация и космонавтика 2002 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Несмотря на трудное послевоенное время, обычно планировались две лётные смены в неделю (напомню, что в неделе был один выходной день, и тот не всегда). Каждому лётному дню предшествовал день предварительной подготовки и обязательно один день в неделю отводился на изучение техники и руководящих документов. Бомбометание производилось, как правило, после короткого, длительностью 30-40 мин, полёта по маршруту. Перед выходом в район полигона каждый экипаж на двух -трёх курсах производил измерение параметров ветра. По ним штурман рассчитывал путевую скорость, угол сноса и данные для бомбометания: угол прицеливания для ввода самолёта в пикирование и установки для коллиматорного прицела лётчика (углы прицеливания по дальности и боковой, именуемые угол пси продольный и боковой), которые лётчик устанавливал на прицеле с помощью соответствующих рукояток. Боевой курс, на котором выполнялось прицеливание, был равен пути самолёта, проходимому самолётом за минуту полёта, что равнялось пяти-шести километрам. Но практически он несколько превышал это значение. Выход на цель выполнял лётчик. Его задача состояла в том, чтобы развернуться и выйти на цель с заданным курсом на установленной высоте. Если разворот выполнен достаточно точно, то боковая наводка на боевом курсе существенно упрощалась. Но так случалось не очень часто. В самом начале боевого курса скорость полёта устанавливалась на 20-30 км/ч выше скорости ввода в пикирование (290-300 км/ч по прибору), и штурман, ориентируясь по прицелу, давал команды для уточнения боковой наводки. Если на боевом курсе приходилось доворачи- вать на углы, превышающие 5-7 град, то это уже был плохой признак. Через 10-15 с после выхода из разворота в режиме горизонтального полёта выпускались тормозные решётки – стрелок- радист докладывал о их выходе. В этот момент происходило торможение самолёта, и пузырьковая вертикаль в поле зрения оптического прицела штурмана "уходила" от нулевого положения. Поэтому задача лётчика состояла в том, чтобы плавно увеличить тягу двигателей, избегая резкого торможения. В противном случае штурман не успевал прицеливаться по дальности из-за нестабильного положения пузырьковой вертикали. Трудно словами описать напряжение, которое охватывало весь экипаж на боевом курсе. Всё подчинено единой, пусть учебной, цели выполнить бомбометание как можно лучше. Лётчик плотно притягивал привязные ремни. По положению шарика указателя крена и скольжения ("Пионера") проверял отсутствие кренов и скольжения, свидетельствующих о несинхронной тяге двигателей, курс выдерживался с предельной точностью. Управление самолётом с выпущенными тормозными решётками усложнялось, он реагировал на отклонение рулей с некоторым запаздыванием. Поэтому практиковалась следующая методика. Доворот на угол до трёх градусов производился без крена. Резко отклонялась педаль, чтобы изменить курс на величину, превышающую угол доворота в 1,5-2 раза, затем педали возвращались в положение нейтрально с некоторым усилием на педали стороны доворота и контролем по шарику "Пионера". Диалог между штурманом и лётчиком на боевом курсе предельно лаконичен: право два – есть право два, так держать – есть так держать, хорошо идёт! Все мышцы у лётчика находятся в готовности, сектора газа двигателей законтрены, обе руки на штурвале, винты затяжелены, концентрация предельная, проверяется отсутствие кренов, курс, скорость, высота. Штурман: "приготовиться" и удар по правому плечу – "пошёл !" Лётчик за 1-2 секунды отдавал штурвал полностью от себя, повисая на ремнях (отрицательная перегрузка на вводе в зависимости от темпа ввода до -1,5, при расчётной -0,66) , самолёт устремляется к земле в стремительном пике. Всё внимание на отражатель коллиматорного прицела, в поле зрения которого две подсвечиваемые окружности диаметром 70 и 105 тыс. с малыми делениями по 10 и 20 тыс. дистанции. Главное – не медлить. При пикировании с 3000 до начала вывода – 2000 м лётчик располагает резервом времени всего лишь 10-12 с. После обнаружения цели перекрестие прицела "пережимается" (находится ниже цели). Инструкциями это запрещалось, но практически, на пикировании доворотом самолёта мы часто исправляли ошибки прицеливания в боковом направлении. Угол пикирования никакими приборами не контролировался. Лётчик интуитивно ощущал, что сейчас последует команда на сброс, и совмещал перекрестие с целью. Штурман в прицеливании на этом этапе участия не принимал, и всё его внимание было обращено на контроль за высотой полёта. За сто метров до высоты сбрасывания (при пикировании с высоты 3000 м это составляло 2200 м, с высоты 2000м соответственно 1400 м, угол пикирования в том и другом случае равен 60 град.) по показаниям барометрического высотомера выдавалась команда "сброс" с дублированием удара по правому плечу лётчика. Если прицеливание выполнено точно, лётчик нажимал боевую кнопку, и отделялись бомбы, или кнопку холостого сбрасывания, которая приводила в действие автомат вывода из пикирования без сброса бомб при несостоявшемся прицеливании. "Дожимание" самолёта в момент сброса, как и замедление его с выводом, недопустимы, и в практике полётов были случаи, когда сброшенные бомбы оказывались на верхней поверхности крыла к неописуемой радости экипажа. Правда, потом они соскальзывали. Обычно лётчики не очень рассчитывали на автомат пикирования, который обеспечивал вывод в горизонтальный полёт с перегрузкой 3,7-3,8 единиц с потерей высоты 250-300 м, и "помогали" ему штурвалом.
Решётки убирались только после перевода самолёта в горизонтальный полёт. Скорость полёта на выводе обычно не превышала 510-530 км/ч. Мы были молодыми лётчиками и перегрузки свыше четырёх единиц переносили довольно легко. Некоторые экипажи теряли чувство меры и, излишне увлекаясь, создавали перегрузки, приводившие к деформации центроплана. На моей памяти остались некоторые воспоминания, связанные с пикированием. Первое – не столь комичное, сколь необычное. Суть его состояла в том, что пикирование обычно производилось с открытым боковым стеклом лётчика (связано с тем, что плексиглас кабин не всегда имел хорошую прозрачность), а техники самолётов просили, чтобы "продуть кабины", выполнить пикирование с открытыми боковыми стеклами, и кабина таким образом очищалась от пыли. Нужно добавить, что пикирование производилось в лётных очках. Однажды на вводе в пикирование я обратил внимание, что в кабине появился предмет, очень похожий на журнал учёта замечаний. Я показал на него штурману, и он схватил его. Однако это оказалось броневой плитой, которая одновременно являлась лючком, прикрывавшим доступ к валу аварийной уборки тормозных решеток. Трудно предсказать последствия подобной забывчивости технического состава.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: